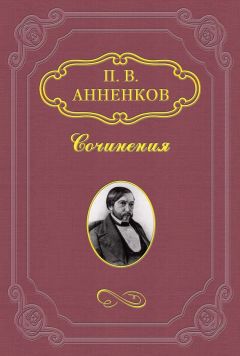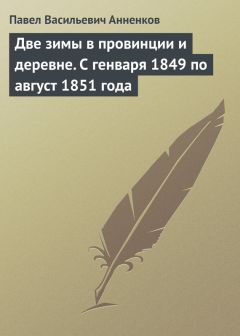3) Самый страшный вопль в разнородных партиях, уже образовавшихся, и в эту минуту, может быть, предтеча новой революции [есть], был циркуляр Ледрю-Роллена (министра внутренних дел) 11 или 12 марта к комиссарам Пра<вительст>ва в д<епартамен>ты. Известно, что Пра<вительст>во послало в де<партамент>ы в первую минуту молодых людей объявить и устроить Республику. Роллен ввиду выборов [и для основания] предоставил им безграничную власть, как старым проконсулам 93 года {36} . [Объявив, что первое их старание должно быть – отстранить всех людей старого времени и споспешествовать выбору de tous les hommes de la veille (старых республиканцев) et pas du lendemain (новых республиканцев), он для этой цели дает им право.] Объявив, что главнейшая их обязанность теперь – составить республиканские выборы, он с этой целью дает им право уничтожить враждебные муниципалитеты, употребить военную силу и сменить начальников ее, сменять всех префектов и подпрефектов, {37} и, наконец, даже суспендировать [37] лиц пожизненной магистратуры {38} . Диктаторский тон циркуляра был еще страшнее самого содержания его, которое, сказанное с некоторою осторожностью, прошло бы, может быть, незамеченное в революционное время. Поднялся страшный, ужасный крик sauve qui peut [38] в Париже. Закричали, что свободы выборов уже не существует, что время террора наступило. Уже и прежде капиталы стали скрываться, богатые отпускали людей, и все сжималось [в первый день], на следующий день все билеты упали на бирже неимоверно и неожиданно, пятипроцентные билеты – на 74–50 и 72, акции банка понизились на 300 франков, золото поднялось до 50 франков лажа на тысячу, 1400 ф. стало 1700. Многие стали бежать из Парижа [на третий день было еще хуже; сами банковые билеты уже возбуждали]. Наконец, поднялось само серебро, а банки были вчера (15, среда) буквально атакованы людьми, которые его билеты старались поскорее променять. [Капиталы скрываются, никто не хочет издерживать ни полушки лишней.] Коммерция вдруг остановилась совсем, а на конце всего этого можно было предвидеть разорение фабрикантов, голодную смерть работников и дислокацию государства. Чтобы судить о состоянии умов и паническом страхе, овладевшем всеми, стоит только прочесть рапорт директора банка Даргу (прежнего д'Аргу). Он извещает, что с 26 февраля по 14 марта уплачено банком 70 миллионов из наличной суммы 140 миллионов и 14 марта осталось в кассе только 70 миллионов. «Ce matin, – продолжает он, – une panique s'est déclarée. Les porteurs de billets se sont présentés en foule à la Banque. De nouveaux guichets d'échange ont été ouverts pour accélérer le service. Plus de 10 millions ont été payés en numéraire. Il ne reste ce soir à Paris que 59 millions» [39] .
Вместе с тем кредитная ажиотация перешла сама собой на улицу {39} . Первая мысль, разумеется, была, что это действие злостных буржуа, которые хотят привести Республику на край гибели финансовым террором… С 14 начались составляться группы на улицах, в которых говорили о способах остановить эмиграцию [во внутрь] из Парижа и заставить богатых издерживать их деньги, скрываемые ими для погибели коммерции и работников. Множество проектов для достижения этой цели, имевшие, по обыкновению, совершенно обратное действие, прибиты были на улицах. Правительство, однакож, объявив банковые билеты монетой, остановило [этим выдачу денег из банка] этим промен билетов в банке и дозволило ему выдать новые во 100 франков. Все это подняло несколько фонды, кредит и доверенность, но всего более речь Ламартина на депутацию от клуба Свободных выборов (: старых династиков), в которой он сказал, намекая на циркуляр Роллена, произведшего все это волнение: «Le gouvernement provisoire n'a chargé personne de parler en son nom à la nation et surtout de parler un langage supérieur aux lois (Bravo!)!» [40] .
И потом, заверяя, что сам Роллен не имел намерения заместить господство народа своим собственным и свободные выборы – подкупом, страхом – прибавил: «Nous voulons fonder une république qui soit le modèle des gouvernements modernes et non l'imitation des fautes et des malheurs d'un autre temps! Nous en adoptons la gloire, nous en répudions les anarchies et les torts!» [41]
В тот же вечер (: среда, 15) разнеслась речь по городу, и я видел сам одного энтузиаста часов в 11 в Пассаже de l'Opéra, читающего речь при многочисленном стечении народа со слезами на глазах и дрожащим голосом. Наконец, Правительство за подписью всех членов его издало манифест в четверг, в котором полагает за первый признак своего существования уважение к собственности, к мнению, к свободе выборов, а за необходимость – [только остановление последнего] – только отстранять от последнего все, что может помешать существованию Республики, уже всеми признанной! Министр юстиции объявил, что без его ведома никто сменен быть не может.
Перипетии эти, однакож, еще не кончились. Почти вслед за циркуляром разнеслись слухи, что Правительство разделено на две партии: Ламартиновскую с Nationale-вской и социальной Луи Блана и Ролленовскую с «Реформой» и монтаньярами его. Почти в одно время старая национальная гвардия, сильно возбужденная против Ледрю-Роллена, объявила себя за Ламартина. Клубы и гвардия мобильная за второго, которого [откровенность] замашки им казались откровенно революционными. В понедельник 13, вторник 14, среду 15 первая партия (старой гаардии и людей прежнего порядка) писала протестацию. Кератри подал в отставку из Государственного совета, не желая быть, как говорил в письме, [орудием в чужих руках] слугой никакой тирании. Клуб выборов, как мы видели, ходил сам к Ламартину объясняться, но в четверг 16 партия вздумала выйти на улицу и сделать целой массой протестацию против диктаториальных тенденций некоторых правительственных членов. Исполнение приняла на себя национальная гвардия, а органом ее сделалась газета «La Presse». Тут сделана была, однакож, [страшная] непростительная ошибка: во-первых, 14, вместо посылки депутатов, прежняя национальная гвардия вышла сама, хотя и без оружия, но в мундирах и е числе тысяч 10, хотя журналы возвели это число до 25 т. Это уже имело вид инсурекции и противоречило их собственному принципу порядка (эта гвардия, между прочим, составила клуб в Boulevard Monmartre, № 10, и основала свой орган в печати «l'Ordre». Во-вторых, вместо протестации против тенденции и циркуляра, она стала протестовать в собственном своем деле, а именно: декретом 14 марта Роллен уничтожил избранные компажи [42] в национальной гвардии (compagnies d'élite), гренадеров с их волосатыми шапками и волонтеров с уланским и богатым костюмом, указав разместить их по другим батальонам, где они должны вместе с прочими участвовать в выборах офицеров и начальников. Оскорбленные компажи подбили прежнюю гвардию идти вместе с ними требовать восстановления их для того, чтобы они могли с знанием людей вотировать на выборах, ибо в [новых] батальонах все лица им не известны. Таким образом принцип свободы выборов сведен был на частное тщеславное дело с оскорблением самого главного в ту минуту чувства, чувства равенства, и народ в ту минуту же назвал всю протестацию protestation des bonnets à poil [43] , хотя в объявлении [гвардейцы] гренадеры и волонтеры отказывались от всех наружных знаков отличия. Народ [поступил еще решительней] не ограничился, разумеется, шуткой. Я видел в четверг, в 12 часов, 16 марта все эти легионы в необычайном порядке, доказывавшем, что мэрия кварталов участвовала в заговоре, проходивших через бульвары и площадь Madeleine, рука в руку, в мундирах, без оружья, молчаливо и важно. На набережной, почти перед площадью Hôtel-de-Ville их встретил начальник н<ациональной> гвардии генерал Куртэ, прося и приказывая разойтись и объявляя их демонстрацию бунтом. Произошла скандальная сцена: первые легионы не послушались и продолжали шествие; на самой площади народ встретил их каменьями, не допуская к Ратуше. Между тем, на набережной, после бесполезных увещеваний Куртэ, народ принял дело на себя, загородил дорогу остальным легионам, стал делать баррикады, называя их бунтовщиками в мундирах. Группа народа состояла, говорят, из 100–150 человек. Легионы, в числе которых было множество людей, получивших приказание на сбор из мэрии и не знавших хорошенько, в чем дело, тотчас же и разошлись со всеми заготовленными депутациями. То же сделали легионы, уже добравшиеся до площади и встреченные там народом. Кое-каким депутациям (от каждого легиона была одна такая) удалось разрозненно и без всякой связи представиться Правительству, и там получили они довольно строгие слова Мараста, Бюше [несколько наставлений Ламартина]. Вся демонстрация, что называется, упала в воду.
Но воодушевление в Париже в наступивший вечер было неимоверное. Я направился в клуб Société républicaine central к Бланки, в Консерваторию. Сцена ее, освещенная пятью или шестью свечами и с которой привыкли слушать в концертах ее море гармонии и звуков, походила на темное подземелье. В большой люстре горело несколько ламп, хоры были заняты людьми в блузах, сюртуках и женщинами из народа. В партер пускали или членов, или с доплатой одного франка. Я поместился в партере. Бланки еще не было, председательствовал какой-то старичок. Господин с бледным лицом, черными волосами, с фанатическим воодушевлением кричал: «Консерваторы, династики, роялисты, буржуа – сделали демонстрацию… нам надобно их спасти! Sauvons-les, Messieurs, sauvons-les [44] , сделаем сильную народную демонстрацию, чтобы отбить у них всякую охоту на будущее время… Sauvons-les, – и он махал руками, – для их жен, для их почтенных жен, умирающих от страха». Яростные аплодисменты и хохот. В разных местах раздаются свистки. Один человек свистит на самой сцене. Президент говорит: «Разрешаю публике произвести над свистком суд, самые близстоящие люди имеют право выгнать свисток». Голоса: «Подле вас свистят». Голоса на сцене: «Вот кто свистит». Президент, обращаясь к группе и к человеку: «Если вы имеете возразить на мнение оратора, я вам даю слово». Голоса: «à la tribune! à la tribune!» [45] Свисток убегает… Шум… Президент стучит неимоверно молоточком по столу. Выходит черный человек (кажется, г. Hyppolite Bonnelier, бывший актер на сцене в Одеоне) и с неимоверной быстротой речи говорит: «Citoyens! La conduite de Mr Lamartine dans l'affaire de la circulaire est déplorable…» [46]