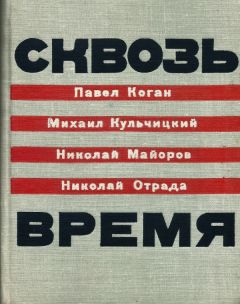Ознакомительная версия.
Процитируйте ему Канта: мирный договор при сохранении предпосылок войны бессмыслен — и он, диверсант, обеими руками подпишется по этим, потому что для него реально именно состояние войны, а чтобы «подписаться под этим», ему надо куда-то положить на время автомат Калашникова, с которым он не расстается.
Поневоле воззовешь к мирному диалогу: вдруг получится?
Не потому ли интеллектуальная элита и отправилась в поход за диалогичностью, что практически уперлась в этого диверсанта, никак диалогичности не признающего? И не потому, что он, диверсант, плох там или хорош, — а потому, что жизненная установка его иная, чем мы привыкли: для нас человеческая жизнь есть ценность абсолютная, а для него — весьма относительная. В том числе и его собственная жизнь. Он нам еще и докажет, что толерантность мы ему навязываем с целью его расслабить.
Никакого царства диалогичности я впереди не вижу. Будет царство силы, промеряемой расчетом. Борьба, кровь, гибель.
«Мир творится людьми».
Это — теперь выяснилось? А люди — не часть природы, чем-то (Кем-то?) созданная? А разве законы этой природы человеческим помыслам не предшествуют? А если законы природы освоить. но это так раньше думали.
Теперь — ничего подобного. Мировая практика говорит другое: человек непредсказуем, законы ему не писаны, переделать его невозможно, можно его только на время умиротворить. По этой одежке и протягивать ножки, а иначе протянешь ноги.
А если переделать человека невозможно, что с ним делать?
А вот: не давать другому человеку оценок, не попрекать его ошибками, стараться понять его доводы, войти в его положение, почаще ставить себя на его место, избегать «пороков полемики»: сарказма, эмоционального форсажа, насмешливости.
То есть не хамить.
Применительно к «мирному времени», а особенно к нашей русской ментальности, запредельной, от века презирающей правила хорошего тона, — увещевание это полезно (я беру его из статьи Аркадия Пригожина в «ОНС»).
Но представьте себе время военное, ну, скажем, 1941 год, и статьи Ильи Эренбурга, с его испепеляющим сарказмом, эмоциональным форсажем, убийственной насмешливостью. вы ему что, тоже посоветовали бы умерить пыл?
Ему и посоветовали. В 1945-м: «Товарищ Эренбург упрощает». Он умерил. И понятно: мирное время — не военное время.
Так вопрос в том, какое теперь время.
Ясно, какое: переходное.
От чего к чему переходное?
Будем надеяться, что от войны (слава богу, не горячей и не холодной) к миру (дай бог, длительному).
Если так, будем учиться диалогу. Диалогу, а не спору.
«Ни в коем случае не следует спорить».
Вот уж не подозревал, что услышу такое. Мы-то в молодые годы только на спор и уповали. У меня в 60-е годы даже статья была опубликована: «Спор есть норма». Смысл ее ясен, если вспомнить, ответом на что была такая «норма». Нам-то внушали, что спорить об основополагающих вещах нельзя, что норма установлена основоположниками навсегда и незыблемо, что есть нормы, которые обсуждать нечего. Для нас, молодых, спор был отдушиной, в которую мы просовывались, чтобы дышать.
Теперь я думаю, что тогдашняя наша страсть к спорам — не более, чем реакция на запрет. Теперь, когда нет ни цензуры, ни норм, ни основоположников, — спорь, сколько влезет, — так не лезет оно в меня! Спор не рождает истину, он выявляет препятствия на пути к ней. А истину рождает (вернее, приближает) тихое размышление после спора наедине с самим собой. Это и есть душевная практика.
К вопросу о практике. У Аркадия Пригожина — замечательно точное наблюдение: чувствуя опасность противостояний (споров), мы изо всех сил приветствуем диалогичность, но — «на доктринальном уровне», в полном отрыве «от человеческой практики».
Это наблюдение Пригожина заставило меня оглянуться на мою многолетнюю практику, то есть на занятия литературной критикой, каковой я отдался со младых ногтей, и со младых же ногтей меня преследовало смутно-интуитивное ощущение «неправедности» этой практики, а теперь, кажется, обрело почву.
Если мне будет позволен такой экскурс, я объясню.
2. Воздушный поцелуй литературной критике
Арсений Пригожин различает три способа словесного взаимодействия оппонентов:
«Полемика — борьба до победы одного над другим. Из двух сторон одна берет верх, другая «падает». Тут не выясняется истина, даже не интересно само мнение противника. Главное — нанести ему ущерба больше, чем он тебе.
Дискуссия — подразумевает заинтересованность оппонентов в привлечении противника в споре на свою сторону, стремление убедить в своей правоте. Для этого, конечно, надо приводить доводы сильнее, доказательнее и ярче тех, что выдвигает другой.
Диалог — означает обмен знаниями, ценностями, переживаниями. Тут каждый прав по-своему, и участники стремятся понять друг друга.»
Нетрудно вспомнить, какое именно взаимодействие было в ходу, когда я в возрасте, который католики называют конфирмационным (а по-нашему это отрочество), почувствовал тягу к литературной критике.
В школе под диктовку словесника (который вскоре стал моим любимым учителем и остался таковым в памяти по сей день) я записал четверостишие одного знаменитого поэта из «шестидесятников» (из тогдашних, девятнадцатого века, «шестидесятников», а не из тех, коими по аналогии маркировали мое поколение в двадцатом).
Стихотворение называлось «Вы и мы»:
Вы — отжившие прошлого тени,
Мы — душою в грядущем живем.
Вы — боитесь предсмертных видений,
Новой жизни рассвета — мы ждем.
Не то чтобы стихи мне сильно понравились, но учитель сказал, что без понимания этой борьбы, без чувства этого раскола на «наших» и «ваших» великую русскую литературу не понять. И он был прав.
Так что же это за ситуация по пригожинской схеме? Диалог? Да за такой термин мне в мои отроческие временатотчас навесили бы оппортунизм и пособничество. Дискуссия?.. Вряд ли. Разве что — перетащить на свою сторону колеблющихся, включить в свои ряды.
Полемика? Она самая. Насмерть!
Меня не тянуло в такую полемику. Меня тянуло в литературную критику. И потянуло еще до того, как учитель словесности продиктовал нам дислокацию: мы — они. Я думаю (вспоминая дела шестидесятилетней давности), меня изначально облучил Белинский, статьи которого читал по радио артист Алексей Консовский. Время было послевоенное, отцы перебиты, библиотеки разорены, и, конечно, ни одной строки Белинского я еще воочию не видел. Но была — с военного времени — привычка не выключать радио, и из «черной тарелки» неслись колдующие периоды статей о Пушкине, на волнах которых я уносился в такую непонятно-мечтаемую даль, какой не открывала даже музыка.
Потом, через пару лет, прочтя неистового Виссариона более трезвыми глазами, я почувствовал — кроме все того же околдовывающего одушевления — какую-то ранящую запальчивость. Словно и впрямь все сводится к вопросу: кто теперь первый писатель на Руси? Это рациональное числительное сочеталось почему-то не с «Россией», не с «русской литературой», а с артистично падучим: «на Руси».
У Белинского это царапало, у Чернышевского стало коробить. И тем более у Добролюбова с его лучом света в темном царстве. Эти двое были преподаны мне как идеальные герои реальной критики. Непримиримость обрела четкость юридической доктрины: критик анализирует произведение писателя с точки зрения действительности, оценивает его и выносит приговор.
Кому? Писателю? Действительности?
Да, и ему, и ей, и вообще всему и всем.
Уже в университете, решившись следовать заветам предтеч, я гнал от себя сомнения. А они закрадывались: да кто я такой, чтобы выносить приговоры? Какое у меня право судить того же писателя? Почему я должен считать себя умнее его?
Встречный вопрос: а тогда какого лешего ты лезешь заниматься литературной критикой?
Какого лешего — это я помаленьку про себя решил. По складу способностей я воспринимал реальность только в ее логичных формах, а если в безумных, то безумие ж потому и безумие, что отсчитывается от разума. Лучше всего я прочитывал реальность, когда она уже кем-то освоена, переведена в осознанность: в краски на полотне, в роли актерской игры, в ритмы киносъемки, а лучше всего — в текст. В художественный текст, как и было велено по программе.
Художественный текст кто анализирует? Критик.
Как при этом избежать роли оценщика-бичевателя, которой учили Чернышевский и Добролюбов?
На мое счастье нашелся еще и Писарев.
Вандал, посягнувший на Пушкина!
Да вот тут-то и была зарыта собака, которая покусала совсем не тех, на кого была науськана. Оценки, которые Писарев давал Пушкину, его конечные приговоры, были настолько абсурдны, что я их просто игнорировал. Писаревская игра ума жила отдельно от оценок, и именно игра эта была упоительна. С Чернышевским и Добролюбовым такое не получалось — они всю силу интеллекта строго употребляли на оценку и приговор, и вырваться из их доктринальной последовательности мне было не по силам. А писаревская мысль гуляла помимо оценок (загодя безумных) и приговоров (окончательно абсурдных).
Ознакомительная версия.