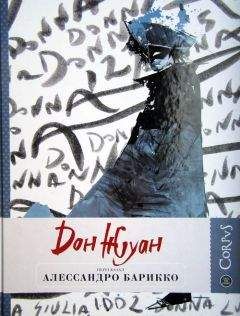Вдруг мы вышли на небольшую поляну, в центре которой стоял большой камень. Мы встали вокруг камня и договорились, что каждый станет издавать какой-то определенный звук: «Ты – такой, я – другой, и так далее…» Я залез на камень и принялся дирижировать хором. После каждого взмаха моей руки раздавался тот или иной звук, и так довольно долго. Устроив такую хоровую импровизацию, мы развеселились – звуки наших голосов, выводящих странную мелодию, разлетелись на весь лес. С этого все и началось. Впоследствии мы неоднократно возвращались к опыту такой коллективной импровизации, уже как «Иль-Группо ди Импроввизационе Нуова Концонанца».
– То есть все началось с прогулки в лесу?
– Мне кажется, да. Основателем группы стал Евангелисти, идея принадлежала ему, но тем утром после выступления Кейджа мы все участвовали в общем концерте, он стал нашей реакцией на пережитое в аудитории. Впрочем, нужно признать, что именно Франко решил обратить наш единичный шуточный опыт в настоящий серьезный проект коллективной импровизации и экспериментальной музыки, без его инициативы ничего бы не было. Уже с 1959 года он стал продвигать свою идею.
Я знаю, что Евангелисти предлагал вступить в группу многим композиторам, среди прочих и Альдо Клементи, который решительно отказался. (Улыбается.) Подход Альдо начисто исключал любую импровизацию – он был математиком, последователем чистейшего сериализма. Я же присоединился к группе лишь в 1965 году, когда меня пригласили.
– Думаешь, что в группу тебя пригласили из-за того, что ты уже прославился своей работой в кино? Фильм «За пригоршню долларов» тогда уже вышел на экраны…
– Нет, я так не думаю. Евангелисти очень нравилось то, что я делал в области прикладной музыки. Однажды, когда я пожаловался ему, что не могу заниматься профессией по-настоящему и вынужден ждать, отказываясь от собственных идеалов, потому что надо зарабатывать, он тут же ответил: «Слушай, Эннио, ты не представляешь, сколько композиторов продали бы родную маму за то, чтобы получить твою работу!» Эти слова до сих пор звучат в моей голове. Для меня это было очень важно, в них было уважение к моему делу.
– Именно благодаря группе ты вернулся в круги, дорогие твоему сердцу? Что из полученного в группе опыта для тебя особенно важно?
– Присоединиться к группе и было самое важное. Я снова смог вернуться к музыкальной импровизации и эксперименту и в то же время возобновил контакты с коллегами и старыми знакомыми. Кроме того, работа в группе дала мне необходимый глоток свежего воздуха – она отвлекала меня от рутины, в которую я погружался по мере работы в кино. Я снова стал профессионально играть на трубе, но теперь уже в совершенно новый манере. Было очень интересно «разобрать» инструмент по косточкам и вновь «собрать» в новом контексте. Мы продвигали совершенно неожиданные эксперименты.
Такого рода деятельность означала для меня возврат к тому авангарду, от которого я дистанцировался несколько лет назад. Импровизация придавала работе композитора спонтанности, что являлось для меня большим стимулом: для нас открывались двери к своего рода анархизму. Инструменты использовались совершенно по-новому, можно сказать, прогрессивно, мы как бы заново их создавали, извлекая из них новые звуки, добиваясь нового тембра, далекого от классического звучания. Мало того, если случайно, хоть на секунду, из моей трубы выходил обычный звук, я приходил в ужас. То же касалось и остальных – тромбонов, саксофонов… Фортепиано тоже специально «готовилось» к концерту: иногда между струн вставляли кусочки ткани или шурупы, а струны инструмента можно было перебирать, подобно арфе, пальцами, или чем-то еще, например, веником, а молоточки оставались незадействоваными. Для извлечения звука пианист мог использовать разные предметы – например, зажигалку, он проводил по струнам самыми разными способами. В общем, мы использовали все что угодно, чтобы добиться новизны, разрушить традиционные стереотипы о звучании инструмента.
– Как мне кажется, кое-что из этих приемов ты перенес и в свою киномузыку.
– Уже в классе Петрасси мы учились создавать необычное звучание с помощью нетрадиционных инструментов, но, конечно, множество открытий в отношении тембра я сделал, работая с группой.
– У вас были какие-то правила, с которыми нужно было считаться во время импровизации?
– Немного. Прежде всего в основе группы лежала идея «звучащего предмета», который издает звук посредством коллективного участия. Также был важен принцип импровизации, она могла быть свободной, но включала в себя и продуманные моменты.
Мы активно обсуждали работу друг друга и были настоящими критиками собственной деятельности, старались поддерживать строгость и дисциплину. Все, что мы делали, записывалось и прослушивалось, что давало возможность оценки и тщательного анализа. Никто из нас не должен был выделяться, на всех фазах нашей работы каждый следил за тем, что делали остальные, начиная с задумки и кончая репетициями и исполнением для записи. Кроме того, было важно, чтобы ни один инструмент особо не выделялся, что довольно сложно, учитывая, что играли мы то вшестером, то всемером. Когда кто-то вырывался вперед, он тут же ощущал чувство вины. Нередко Евангелисти, сидевший за фортепиано, перебарщивал, и мы тут же его одергивали, иной раз выбивалась труба, и тогда я понимал, что заигрался, и мне тут же об этом говорили.
Во время репетиций мы пробовали разные модели сочетания инструментов и взаимодействия исполнителей. Наконец, мы разработали определенные схемы и старались в дальшейшем их придерживаться. Это помогало поддерживать композиционную структуру. Одно из произведений, – довольно длинная композиция, продолжительностью около сорока – сорока пяти минут, воплощает собой все принципы, которые мы совместно разработали во время наших репетиций: это продуманная и в то же самое время свободная импровизация. Иногда она существует по заданной схеме, но в нужный момент эту схему можно нарушить.
Обычно мы вели музыкальный диалог, полагаясь на быструю реакцию-ответ любого коллеги, который соглашался или не соглашался с предложением, которое «подбрасывал» один из нас. Таким образом все исполнители могли каждую минуту повлиять на композицию в целом. Речь шла о музыкальной структуре восточного типа, основанной на принципах раги [60]. Динамичные или статичные, но средства, на которых мы концентрировались, были четко определены. Для нас рага была омутом, подвижной неподвижностью, нередко она длилась несколько минут подряд. Я мог издать несколько похожих звуков, которые создавал, ударяя по клапанам трубы. Если кто-то хотел поддержать меня, он повторял эту ритмическую фразу и «перебрасывал» ее следующему инструменту. Если же кто-то хотел отказаться от тех повторяющихся нот, которые я предложил, он создавал новую фразу, и так далее…
– Как думаешь, это можно назвать своего рода диалектикой?
– Конечно, можно и так сказать. Иной раз мы объединяли силы, чтобы получить длинные музыкальные фразы. Часто наше внимание было приковано к феномену так называемых обертонов.
– Можешь привести пример?
– Обычно у нас было два-три духовых: труба, тромбон, иногда саксофон. Начав с органного пункта си-бемоля – базового звука этих инструментов, мы работали только с теми звуками, которые получались, если использовать серию натурального звукоряда. Получившееся произведение мы посвятили Джачинто Шельси, которого в те годы очень привлекала восточная музыка. Композицию можно послушать на диске «Музыка по схемам», и называется она «Дань Джачинто Шельси».
– Вы ведь даже концерты давали. Какова была реакция публики?
– Нас принимали хорошо. На концертах зал всегда был полон и было видно, что людям нравится то, что мы предлагаем, даже если иной раз решения оказывались слишком экстремальными. Публика оказалась неплохо подговлена к тому, что мы исполняли, в семидесятые годы люди активно интересовались тем, что происходило на сцене. Невероятно, что с тех пор прошло больше сорока лет…