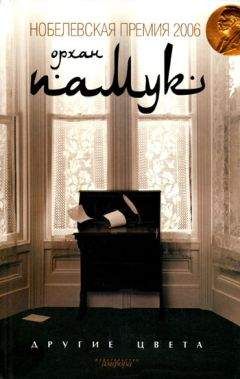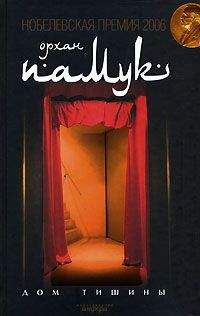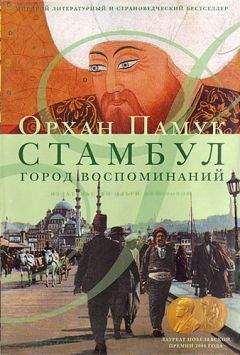Ознакомительная версия.
Я упомянул о закрытой комнате, так как хотел объяснить, что, когда мы не знаем даже основных понятий, которые могли бы помочь нам понять нашу историю, мы можем попытаться понять ее только с помощью аллегорий. Что нам нужно — это создать новую разновидность детективов, чьи действия разворачиваются за запертой дверью, которые я привел здесь в качестве примера. В этой новой версии ответственность за убийство — или за Преступление с большой буквы, как это бывает в аллегориях — будет возложена на хозяина комнаты, где произошло убийство, или на тех, кто живет там или поблизости и мог слышать крики умирающего. С того момента, как мы соглашаемся считать это исходным пунктом, мы будем вести себя так, будто играем в шахматы по новым правилам, что поможет нам предугадать, как убийца и его жертва поступят в этой новой для них ситуации. Это означает, что для того, чтобы его не нашли, чтобы не установили истинного убийцу, тот будет вести себя так, будто все, кто находятся вокруг, по соседству, — виновны.
Это подводит нас к идее колумниста Четина Алтана, что ответственность за преступление кроется в структурных особенностях самой культуры. Но если, несмотря на это, мы начнем с аллегорий, туманностей и неясных новых голосов, подсказки которых мы толком не знаем как трактовать, мы, по крайней мере, убережем себя от написания истории о недостатках и различиях, которая ведет нас к поражению. В юности, когда я стремился узнать, понять и объяснить все и читал статьи многочисленных колумнистов, вроде Четина Алтана, я неясно чувствовал, что в дальнейшем стану писателем. В те времена я все время думал не о том, чтбя буду писать, как все те, кто мечтает стать писателем, а о том, какое положение я должен занимать как писатель. Писатель мне представлялся скорее не модернистом, для которого его работы являются своего рода убежищем и защитой, а писателем, трудящимся на ниве просвещения, желающим понять все и показать все читателю. А сейчас я знаю, что оба этих образа неполны и слишком надуманны. В обществе, где слишком много демонов, демону модернизма приходится трудно. Чтобы общаться с ними, писателю, чья цель — просвещение нации, необходимо приспособиться к давлению со стороны государства и его властных структур. Возможно, я ищу аллегории и рассказываю истории именно потому, что, как и большинство писателей, не могу изъясняться с помощью обычных понятий. Но я не жалуюсь и знаю, что удача на моей стороне, потому что в моей стране аллегории занимают место философии и им верят больше, чем рассказам и теории.
Глава 66
АНТРАКТ, ИЛИ «О, КЛЕОПАТРА!»
Кино в Стамбуле
«Клеопатра» с Элизабет Тейлор и Ричардом Бёртоном вышла в широкий прокат в Стамбуле в 1964 году, с опозданием на два года. В те времена все голливудские фильмы доходили до Стамбула с опозданием на несколько лет, так как турецкие киноимпортеры не готовы были платить цены, запрашиваемые за прокат американскими продюсерами, но это не огорчало стамбульцев, любопытных до последних чудес западной культуры. Наоборот: прочитав последние сплетни об отношениях Тейлор и Бёртона в турецких газетах, печатавших кадры наиболее откровенных сцен, стамбульцы с нетерпением говорили: «Ну что, посмотрим, когда же он дойдет до нас?»
Вспоминая те дни, когда тридцать лет назад я впервые посмотрел «Клеопатру», первое, что приходит мне в голову — и это касается всех знаменитых американских лент — это не сам фильм, а то, с каким волнением я смотрел его. Я вспоминаю Лиз Тэйлор, которая напоминала зрителям не о Клеопатре, а о самой себе и своей славе, — когда сотни рабов медленно несут ее высокий трон во время парадной церемонии; вспоминаю галеры, плывущие не по Средиземному морю, а по морю, построенному в съемочных павильонах и снятому в системе «Panavision», и Рекса Харрисона, который действительно похож на Юлия Цезаря, как я его себе представляю, когда он учит своего сына, как должен ходить и держать себя сын императора. Но чаще всего я вспоминаю, что я сидел в своем кресле и смотрел, как передо мной по всему экрану проплывают мои фантазии, и что я находился там, среди них.
Что означало быть «там, среди них»? Я очень редко ходил на отечественные фильмы, как многие другие турки моего поколения, принадлежавшие к европеизированному среднему классу. Кино давало мне возможность потерять себя в собственных фантазиях, внезапно оказаться во тьме внутри истории, быть очарованным красивыми лицами и красивыми видами, но, помимо этих, знакомых всем удовольствий, кино давало еще и заманчивую и удивительную возможность встретиться лицом к лицу с Западом. Я часто повторял дома на английском испепеляющие слова, которые произносил в особо драматических сценах хладнокровный красавец-герой. Как и многие другие подростки, похожие на меня, я внимательно следил за тем, как он складывал платок, прежде чем положить его в карман, как он открывал бутылку с виски и как он наклонялся вперед, чтобы зажечь даме сигарету. Также я следил за тем, как он пользуется последними западными изобретениями, еще не дошедшими до Стамбула (такими, как транзистор или тостер). Турки никогда еще не оставались так близко, лицом к лицу с самим Западом в своей повседневной и частной жизни, как в кино — ни когда завоевали все Балканы и дошли до Вены, ни когда при поддержке Министерства национального образования перевели и прочитали всего Бальзака.
Вот что делает кино таким же притягательным, как путешествие или алкоголь: в кино мы встречаемся с глазу на глаз с «Другими». А для того, чтобы эта встреча была как можно более впечатляющей, все готово. Наши глаза отказываются смотреть на что-то еще, а уши не желают слышать шелестение оберток или щелканье орехов. Мы пришли в кино, чтобы забыть о себе, о наших проблемах, о горьких историях нашего прошлого и будущего и о переживаниях, которые несут с собой эти рассказы. Мы подготовили себя к тому, что, предаваясь образу и истории «Другого», мы на некоторое время покинем себя. Подобно рамке, превратившей в объект поклонения масляную картину, темнота кинозала исключает все, обрамляя нас и наши фантазии в рамку, и превращает нашу связь с «Другим» в историю рождения двойника.
Когда мне было пять лет, за семь лет до того, как я посмотрел «Клеопатру», на пустырь рядом с нашим летним домом приходил человек, которого мы, дети, называли «киношник». У него был странный прибор, который он ставил на маленький столик — переносной кинотеатр. Если заплатить ему пять курушей, то можно было заглянуть в глазок, повернуть рукоятку и посмотреть фильм, который длился не более тридцати секунд. Я помню, что видел там очень много сцен, склеенных из разных старых фильмов, но я совершенно не запомнил, что именно я там видел. Единственное, что я помню, — это то, как я был очарован и как прятал голову под черным покрывалом, прежде чем заглянуть в глазок, куда не должен был попадать дневной свет, когда очередь наконец доходила до меня. В кино мы не только встречаемся с «другим»: все, что показывают в кино, в мгновение ока становится «другим».
Вот почему, каким бы ни был сюжет, кино всегда будит наши желания, провоцируя их появлением «другого». Желания дружбы, обычных радостей жизни, счастья, власти, денег, секса и, конечно же, желания всего совершенно противоположного, и желания избавиться от всего. Я помню, с каким восхищением и изумлением разглядывал полуобнаженное тело Клеопатры — Лиз Тейлор, лежащей в великолепной молочной ванне, на фотографиях в газетах и журналах. Мне было двенадцать лет, и тело голливудской суперзвезды стремительно открывало передо мной мир желания и вины. Причиной моего смущения были некоторые страхи и угрозы, внушенные мне в те годы школьными учителями, популярной прессой и одноклассниками, боявшимися заразиться туберкулезом: якобы от кино, как и от самоудовлетворения, хуже соображала голова, портилось зрение, а киношные фантазии, которые никогда не сбудутся, отрывали от реальности.
Наверное, для того, чтобы смягчить опасную и волнительную сцену встречи с «Другим», стамбульцы во времена, когда в кинотеатрах шла «Клеопатра», разговаривали во время фильма. Кто-то предупреждал доброго и хорошего героя, что за спиной у него стоит враг, кто-то поливал руганью злодея, а в большинстве случаев все издавали возгласы удивления, когда люди на экране делали что-то, что казалось совершенно необычным и непривычным: «Смотри! Девушка есть апельсин с ножом и вилкой!» Иногда эти возгласы изумления от всего чуждого, суть чего не сумел постичь даже Брехт, приобретали националистическую окраску. Когда Голдфингер, окруженный последними техническими достижениями и современнейшим оружием, протягивал Джеймсу Бонду сигару турецкого табака со словами, что это самый лучший табак, многие зрители аплодировали негодяю. Что касается сцен, которые турецкая цензура считала слишком длинными, и любовных сцен, из которых вырезались все непристойности, молчаливое напряжение зрителей переходило во всеобщий смех, когда кто-нибудь шутил вслух.
Ознакомительная версия.