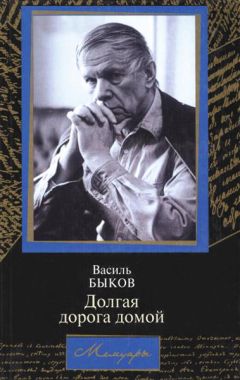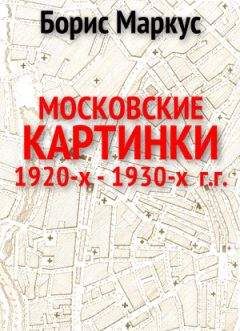Как всегда летом, взялся писать «зимнюю» повесть «Дожить до рассвета».
Тема ее, казалось, звучала довольно экзистенциально, это был мотив тупика и разочарования — на этот раз в локальном конкретном смысле. А можно было понимать и в более широком, это уже как кому представлялось. Такой отход от идейной конкретики давал определенный простор для воображения, но и обязывал. Как и прежде, требовал правды и определенных жизненных реалий, что непросто было воплотить на материале войны. Зато каждый читатель (или группа читателей) понимал те или иные моменты соответственно своим склонностям и желаниям. Автор почти ничего не доказывал, не утверждал — больше изображал и рассказывал. Так казалось автору, хотя на самом деле всё могло быть иначе — так или иначе, хуже или лучше.
Поскольку в «Новом мире» я в том году уже напечатался, послал повесть в Ленинград, в журнал «Нева». Как обычно, стал ждать вызова на обсуждение, редактирование. Вызов, однако, затягивался. И вдруг получаю номер «Невы» с напечатанной повестью и письмо, подписанное главным редактором Никольским, который поздравляет меня с опубликованием и приглашает к сотрудничеству. Это было что-то необычайное, к таким издательским правилам я не привык. (Забегая вперед, замечу, что «Нева» не только напечатала повесть, но и выдвинула ее на Государственную премию.)
Тем временем в издательстве «Молодая гвардия» подоспело издание моей книжки, и я поехал в Москву.[289] С заведующей отделом художественной литературы Зоей Николаевной Яхонтовой я был знаком еще со времен выхода «Третьей ракеты», отношения мои с этой славной женщиной были наилучшие. Хотя, в общем, это комсомольское издательство относилось к авторам и их произведениям с явно завышенными требованиями, и на этот раз меня вынудили дописать к книжке «поплавок» — статью о Хатыни. Хатынь тогда многое выручала в не совсем лояльной нашей публицистике, хотя в определенном отношении оказывалась блефом. (Об этом, однако, позже.)
В редакции, в кабинете Зои Николаевны, познакомился с мрачным человеком, который оказался автором уже известных в литературе «Ивана» и «Зоей» — Владимиром Богомоловым. Он пригласил при случае зайти к нему и дал свой адрес. В следующий свой приезд в Москву я и зашел. Володя жил на Большой Грузинской, под самым чердаком старого дома. Семьи у него, кажется, тогда не было. Мать недавно умерла, и он рассказывал, как сам обмывал ее и хоронил. Жил бедно, нуждался в деньгах, но характер у него был гордый и на угощение Володя не скупился. К его знаменитому «Ивану» я относился, в общем, спокойно, зато любил его «Зосю». («Я те кохам, а ты спишь» — я тебя люблю, а ты спишь.) Володя тогда работал над большим романом, но о чем этот роман, не говорил. Как-то у него на квартире собрались Юрий Бондарев, Сергей Смирнов, Наиль Бикенин — все известные и знаменитые его друзья по литературе и войне.
Богомолов попросил Бондарева достать в «кремлевке», к которой тот был прикреплен, лекарство для меня, для лечения моей астмы — заграничный «беретэк», который очень мне помог. С. С. Смирнов делал тогда на телевидении серию передач о героях Брестской крепости, в тот день выглядел крайне усталым и плохо себя чувствовал. Он очень хорошо говорил о моих и богомоловских повестях, которые, кроме того, поддерживал и в печати. К сожалению, в скором времени он заболел и умер. Бондарев радикальным образом разошелся с Богомоловым — мне до сих пор неизвестна причина, а я, напротив, сошелся. Лет десять мы дружили, он[290] приезжал в Беларусь с молодой женой, отдыхал на Нарочи и в Друскениках. Я познакомил его с моими друзьями, Матуковским и Буравкиным, с которыми и он подружился. Но, как всё на свете, мужская дружба когда-нибудь тоже кончается. Кончилась и моя дружба с Богомоловым.
Многие новости в то время приходили по телефону (теперь по интернету и факсу), пришла и такая: в Гродно судят палачей Хатыни. Выездная коллегия из Минска, пять подсудимых — бывших полицаев. Адамович, который тогда писал свою книгу «Каратели», конечно же, не мог пропустить такое событие и приехал в Гродно. Карпюк уже побывал на первом заседании суда, на второе пришел и я. Внешне нечего особенного — суд как суд. Судьи, адвокат. На скамье подсудимых пятеро пожилых, немало помятых жизнью мужиков. Их привезли кого откуда — из Украины, из России, одного из Казахстана. Но почему их судят в Гродно? Почему хотя бы не в Минске?
И тут выясняется необычный факт. Оказывается, сожгли Хатынь вовсе не немцы, а вот эти полицаи из так называемого 118-го украинского полицейского батальона. Это был, разумеется, не очень приятный для властей факт, он разрушал известный постулат о нерушимой дружбе советских народов. Поэтому этот процесс и отодвинули из центра к самой польской границе.
Хотя вряд ли это было удачным решением: созвучие Хатыни и Катыни вызывало и в Польше определенные негативнее ассоциации.
Судебные заседания происходили в маленькой комнате, публику с улицы туда не пускали. Судьи допрашивали, подсудимые вяло во всем признавались: выполняли приказ, жгли, расстреливали, что мы могли сделать? В числе подсудимых был командир карательной роты Лапуста, который после войны сделал в Казахстане карьеру: стал депутатом местного совета, не раз был награжден. Некоторые из полицаев после освобождения Беларуси побывали на фронте, где неплохо[291] воевали и получили награды — к немецким медалям прибавили советские. Фамилия одного из подсудимых была Сахно (как у персонажа моей повести «Мертвым не больно»), что немало нас позабавило. Адамович даже пошутил по этому поводу: плохо следователи читали Быкова, а то давно бы разоблачили этого Сахно. Или, может, жалели — корпоративная солидарность… «Вот именно! — думал я, — все у нас с Германией перемешалось — кто свой, кто чужой?» Кажется, двоих приговорили к смертной казни, и Карпюк попросил прокурора, чтобы тот разрешил ему провести с ними в камере последнюю ночь: хотел понаблюдать за смертниками. Прокурор не разрешил, а Адамович упрекнул: «Это я должен был об этом просить, да не отважился». Карпюк был доволен, что оказался более отважным. Хотя кто из нас в том сомневался?
Мы жили в противоестественном, уродливом мире, где были отброшены не только христианские заповеди, но и элементарные соображения здравого смысла. Смысл стал классовым, партийным, пролетарским. Нас призывали писать правду, но далеко не всякая правда разрешалась литературе, разве что та, которая служила власти. Над регламентацией правды в поте лица трудились партийные органы, им помогали писательские начальники, цензоры-редакторы, «закрытые» рецензенты, которых за верную службу вознаграждали квартирами, должностями, научными званиями, премиями.
На соискание Государственной премии одновременно были выдвинуты Владимир Короткевич и Борис Саченко, но знаменитый классик был в списке соискателей всего лишь фоном, а премию получил, разумеется, Саченко. Чему энергично посодействовал ЦК КПБ в лице Ивана Антоновича. Всё это, естественно, вело к вырождению литературы. И если в ней появлялось имя не полностью позорного автора, да еще наделенного определенными способностями, наверху решали, что с ним делать. Испытанный способ 30-х годов, по-видимому,[292] уже надоел, потребовались более гибкие способы — кнут в сочетании с пряником. Наблюдали, что окажется наиболее действенным.
После многолетнего избиения кнутом решено было применить к Быкову пряник. Я, конечно же, об этом не знал: литературные начальники умели хранить партийные тайны. Даже те из начальников, которые, в общем, относились ко мне доброжелательно.
Где-то в конце 70-х годов Комитет по премиям присудил мне Государственную премию СССР за повести «Обелиск» и «Дожить до рассвета». После пережитого в литературе эта премия не столь уж меня обрадовала, хотя, конечно, появилась надежда — может, теперь отцепятся? Разумеется, я не рассчитывал, что уж теперь мне будет разрешено писать всё. И так, как я захочу. Но всё же… Правда, Адамович с присущим ему сарказмом сказал, что теперь я сам не захочу дразнить гусей, стану осмотрительней, потому что прошел выучку. Что ж, возможно. Как всегда в таких случаях, премия порадовала друзей, но и прибавила завистников — тоже, кстати, из числа друзей. А зависть (болезнь «красных глаз» у китайцев) — очень скверная вещь, которая обладает дьявольской силой. В этом я не раз убеждался на своем литературном веку. Да и помню, как мама в моем детстве страшно боялась сглаза, завидущего ока — совсем как в Китае.
Вручали премию в Кремле, затем там же и обмывали — дюжина свежих лауреатов в области литературы и искусства. Главным распорядителем мероприятия был наш земляк Шауро, который довольно холодно поздравил меня — словно выговор объявил. Но на меня это не произвело впечатления, больше запомнились искренние поздравления друзей в Москве и Минске.
Тогда же, а может и раньше, отпали некоторые издательские проблемы: в Минске выпустили четырехтомное собрание сочинений, хотя и не включили в него «одиозные» повести «Мертвым не больно» и «Круглянский мост». Чтобы не слишком фанаберился свежеиспеченный лауреат.