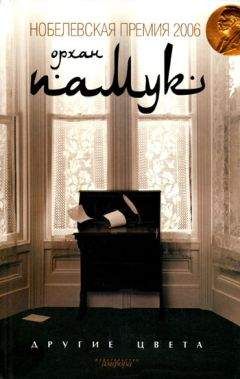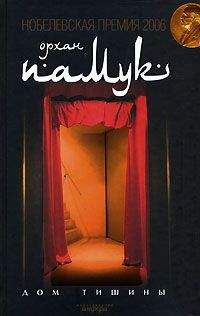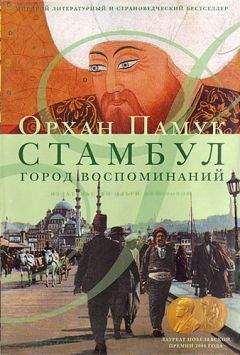Ознакомительная версия.
Когда в те времена меня спрашивали, почему я не стал архитектором, я отвечал на этот вопрос другими словами: «Потому что я не хочу строить многоэтажные дома!» Под многоэтажными домами я подразумевал образ жизни, картину мира архитектора. В конце 1930-х годов старые, исторические кварталы Стамбула опустели, а состоятельные горожане среднего класса начали сносить свои двух-трехэтажные дома с большими садами и на освободившихся участках строить многоэтажные жилые дома, полностью уничтожившие в 60-х годах всю старинную застройку и исторический облик города. В конце 50-х годов, когда я пошел в школу, все мои одноклассники жили в новых многоквартирных домах. Вначале их фасады представляли собой смесь модернизма от Баухауса с традиционными турецкими элементами, например эркером; а позднее они стали плохими, безликими образцами общемирового стиля; а поскольку они были в основном построены на узких участках — как правило, из-за судебных тяжб о наследовании и собственности участка, — то их обстановка тоже была везде почти одинаковой. В домах между квартирами были узкая лестница и узкая вентиляционная шахта, куда в одних домах попадал свет, а в других — нет, в самих квартирах сначала шла гостиная, а за ней — в зависимости от того, на каком участке стоял дом, и от таланта архитектора — одна или две спальни. Длинный узкий коридор соединял гостиную с дальними комнатами; этот коридор и окна, выходившие в вентиляционную шахту, откуда всегда пахло плесенью, старыми вещами, грязью, прогорклым маслом и птичьим пометом, а также окна на лестничной площадке делали все эти квартиры ужасно похожими друг на друга. В годы изучения архитектуры меня больше всего пугала перспектива того, что вскоре и мне придется проектировать такие многоэтажные дома на этих маленьких и узких участках в соответствии со вкусами полуевропеизированного среднего класса и, в большей степени, исходя из соображений экономии. В те годы многие наши знакомые и родственники, страдавшие от нечестных архитекторов, говорили, что, когда я стану архитектором, они с уверенностью поручат мне построить свои собственные дома на земельных участках, доставшихся в наследство от родителей.
Я не стал архитектором и избежал этой участи. Я стал писателем и много чего написал об этих домах. Все написанное мной научило меня вот чему: каждый дом становится «домом фантазий» его жителей. Эти фантазии, как призраки, взлелеяны в старых, полуразвалившихся, темных и грязных его углах. Фасады домов от времени часто становятся лишь красивее, а стены внутри светятся загадочной красотой, и в каждом доме можно увидеть следы его превращения из просто безликого строения в уютный дом. Именно этот процесс, как мне кажется, объясняет строительство новых перегородок в комнатах, дырки в стенах и сломанные лестницы, о которых я говорил раньше. Ни один архитектор не сможет обнаружить следов или убедительных доказательств этого процесса и понять, когда и какие мечты первых жильцов помогают превратить новое заурядное здание, созданное в стремлении к модернизации и европеизации, в свой дом.
Когда после сильного землетрясения, унесшего три месяца назад около тридцати тысяч жизней я шел между развалинами домов, среди кусков стен, разбитых окон, груд бетона и кирпичей, домашних тапок, подставок от ламп, смятых занавесок и ковров, я со всей полнотой вновь ощутил присутствие силы воображения, превращавшей каждое здание, куда входил человек, старое или новое, каждый его приют, в родной дом. Подобно героям Достоевского, которым воображение помогало держаться за жизнь в самые тяжелые минуты, мы тоже знаем, как превращать здания в свои дома, даже если наша жизнь и тяжела.
Но когда эти дома разрушены землетрясением, мы с горечью понимаем, что наши дома — это только дома. Отец рассказывал мне, что сразу после землетрясения, убившего тридцать тысяч человек, он сумел выбраться из своего дома и на ощупь, по темной улице — так как весь Стамбул остался без света, — пошел прятаться в другой дом, стоявший на расстоянии двухсот метров. Когда я спросил его, зачем он туда пошел, он сказал: «Второй дом крепкий, я сам его строил». Это был наш семейный дом, где я провел детство, на разных этажах которого в свое время жили мои дяди, тети, моя бабушка; о нем я часто писал в своих романах, и мне кажется, отец пришел туда не потому, что дом был прочным, а потому, что это было его дом.
В искусстве, в котором османцы преуспели — в архитектуре, наивысшим достижением является соборная мечеть Селимие в Эдирне. Когда в начале 1970-х годов я изучал в Стамбуле архитектуру, а моя голова была слишком занята османской архитектурой и творениями ее великого архитектора, Синана, я поехал в Эдирне только для того, чтобы еще раз увидеть мечеть Селимие. Мечеть произвела на меня впечатление как в детстве, когда десять лет назад мы ездили смотреть на нее на папиной машине, — она поражала размерами и высотой единственного купола, который был виден издалека. Ни одна османская мечеть не наложила такой отпечаток на облик города, как Селимие. Живописный город — сам памятник архитектуры, казался меньше из-за того, что он находится рядом с этой мечетью и ее куполом. Мечеть построил Мимар Синан между 1569 и 1575 годом для сына Кануни, Селима II. В XVI веке, когда военная и культурная мощь Османской империи достигла расцвета, эта (бывшая) столица, историческая значимость которой ныне забыта, была превращена в плацдарм для подготовки походов на Запад.
Архитектура мечети представляет собой совокупность всех эстетических устремлений османской архитектуры мечетей и исканий великого Синана: единственный купол призван усилить это ощущение мощи господствующего объема. Великие соборные мечети раннего периода Османской империи, как и ранние строения Синана, имели множество маленьких куполов и полу куполов, и красота здания проявлялась именно в гармонии между большим куполом посередине и поддерживающими его полукуполами и несущими колоннами. А в мечети Селимие, которую Синан называл «своим шедевром», основной идеей является единственный большой купол, возвышающийся над всем зданием. Когда мне было двадцать лет и я был студентом архитектурного отделения, мы с одним моим приятелем пытались установить связь между этим стремлением к «единственному куполу» и политическим и экономическим центризмом Османского государства. А Синан в книге, написанной с его слов его другом-поэтом Саи, говорит, что черпал вдохновение, глядя на купол Айа-Софии в Стамбуле.
Вокруг купола расположены минареты, самые высокие в исламском мире. Внутри двух минаретов находятся три отдельные лестницы; не пересекаясь, они поднимаются к трем отдельным балкончикам, создавая ощущение геометричности и симметрии здания. Но, войдя в мечеть, вы поразитесь простоте и скромности внутреннего пространства, ощутите тайну османской мечети, ее архитектуры; вы почувствуете богатство и силу Османской империи, монументальность и претенциозность здания, символизирующие стремление падишахов оставить о себе память; а простота внутреннего убранства позволит ощутить связь с Богом, близость к Аллаху. Селимие, как и все великие османские мечети, потрясает не внутренним убранством, не рисунками и орнаментами, она потрясает чистотой линий и гармонией пространства. Мечеть придавала жителю Эдирне силу и решимость, она свидетельствовала о богатстве и мощи Османского государства и самого падишаха, но стоило ему войти внутрь, как все мысли оставляли его, все, кроме одной — мысли о смиренном месте человека в мире. Но это не готическая архитектура, которая подавляет человека и напоминает ему о его ничтожности и греховности, это архитектура окружности, которая, принимая человека таким, каков он есть, напоминает ему о простоте жизни и смерти. И человек понимает, что это — божественное совершенство, сотканное скрытой и явной симметрией и безупречной геометрией здания мечети. Простотой и мощью необработанных камней, чистотой и величием купола и восьми изящных колонн…
Имя «Беллини» часто встречается в истории искусства. Известны три художника Беллини. Первый, Якопо Беллини; но сегодня его помнят скорее не как художника, а как отца двух братьев, ставших знаменитыми живописцами. Старший сын, Джентиле Беллини (1429–1507), был самым авторитетным художником Венеции своего времени. Сегодня он знаменит благодаря картинам, выполненным во время путешествия на Восток, когда он побывал в Стамбуле — тогдашнем Константинополе, — и больше всего благодаря портрету султана Мехмеда — завоевателя Стамбула. Его, как говаривали злые языки, единокровного брата Джованни, родившегося годом позже, современные западные искусствоведы почитают за чувство цвета. Кроме того, считается, что Джованни Беллини оказал большое влияние на венецианскую живопись эпохи Возрождения, что, в свою очередь, повлияло на ход развития европейской живописи в целом. Эрнес Гомбрих, рассуждая о роли традиции в искусстве на страницах своей монографии «Искусство и ученость», заметил, что если бы не было Беллини (подразумевая именно младшего Беллини) и Джорджоне, то не было бы Тициана. Но знаменитая лондонская выставка «Беллини и Восток» была все-таки посвящена не ему, а его страшему брату, Джентиле.
Ознакомительная версия.