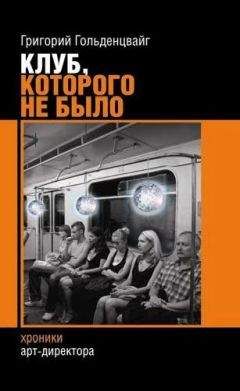На тощем мускуле продавца татуирован терновый венец. Банальщина – у Хомяка вот на запястье куски пазла. «Лучший клуб» – на вокзале, у грузинской закусочной, предполагается.
– Скажи мне, пожалуйста, – спрашиваю дизайнера, пока мы с тюками ждем у магазина грузовое такси, – зачем мы купили эти сраные головы? Куда они пойдут?
– Там посмотрим, – отвечает Хомяк.
Продавец оценил наши препирательства – решил, что мы пара.
***
С люстрой не задалось с самого начала.
В комиссионных-антикварных нужных образцов – помпезных, с подвесками под хрусталь, как в театральном фойе, – раз-два и обчелся. В редких случаях, где не обчелся, – дорого не по карману. В дизайнерских магазинах – сетевое торжество пластика. Более или менее красиво, но не то, что нужно.
– Испортился Берлин, – ворчит Хомяк.
Мы сидим у окна в кафе Gorky Park, дуем на горячий овощной суп.
– Ладно тебе, пока на пять евро можно поесть – не испортился, – вяло возражаю я.
Про «испортился» я слышу от всех знакомых, к которым залетаю с вытаращенными глазами и дурным монологом «открываемся-некогда-но-так-рад-видеть». Агент Алекс жалуется, что двухкомнатную квартиру с нормальными деревянными полами в хорошем районе дешевле ста тысяч евро не купить, и это подлость, и даже музыкант Али из Tiefschwarz – человек не бедный, а вот мучается. Художница Лаура возмущена, что на блошиных рынках до того мало становится гэдээровских вещиц, что скоро за ними в музей ГДР при «Рэдиссоне» ходить придется.
– То ли дело раньше, – льет сам себе бальзам на раны Хомяк. – Как русские ушли да БМП свои с пустыми баками где попало побросали – на каждой на следующий день было по вечеринке. Самые-самые, конечно, англичане были. У них драгса всегда было завались, они на этих
машинах так выплясывали. Правда, под горячую руку им лучше было не попадаться – любители подраться при случае, это да.
Хомяк быстро вычерпывает суп со дна плошки. Теплый суп против пронизывающего берлинского ветродуя в феврале – лучший антидот. А мы весь день на улице.
Я снова в меньшинстве – мне нравится, что по улицам слоняются благообразные мамаши с колясками, и без драг-диско на БМП я точно не скучаю. Я проходил вчера по Кастаниен-аллее, зашел в подъезд под надписью: «Kein Spekuland!», где в свое время заботливая лесби-мамаша Эллен с сыном по имени Джимми-Хендрикс кормили меня на завтрак круассанами в обмен на привезенные из Амстердама пахучие шишки – как же я нервничал тогда, трясясь на автобусе через немецкую границу с этим грузом, и как грел меня, студента, этот выкрашенный космическим серебром подъезд – мое первое пристанище в Берлине.
Я был там сегодня. Подъезд перекрасили в благородный цвет детской неожиданности. Имени Эллен на двери больше нет. Никто больше не покупает круассаны в долг на Кастаниен-аллее, и людям по имени Джимми-Хендрикс здесь нечего больше делать. Значит, они живут где-то еще, стреляя травку у случайных постояльцев, – а в том, что я не знаю и ленюсь узнать, где они сейчас, кроме меня, никто не виноват. Теперь здесь водят детей в детский сад Тилль и Флаке из Rammstein.
Мы отставляем плошки, выходим, путаясь в ступеньках Gorky Park на улицу, огибаем будто выросшую из-под земли демонстрацию.
– Видишь, на том перекрестке бросили бутылку – что-то загорелось? – замечает Хомяк.
Останавливаемся на углу вместе с заинтересованными мамашами и наблюдаем, как полицейские в шлемах безрадостной колонной бегут к очагу возгорания. Студенты хулиганят. Через минуту нечесаная толпа в кроссовках и тапочках скрывается за следующим поворотом, с ними же исчезает полиция, и только звук полицейской сирены напоминает: город живет.
Мамаши и Хомяк сожалеют: быстро представление закончилось.
– Разве это демонстрация, – хмыкает Хомяк.
Ну да, раньше-то оно повеселее было. И квартиру с полами деревянными в Пренцлауэрберге за сто тысяч никто не пытался продать.
До дизайнерской лавки «Дом» на Хакеше Маркт десять минут. Их хватает, чтобы из наших плохо утепленных тушек выветрилось тепло дешевого супа.
Я сдаюсь – покупаем массивную серебристую пластиковую люстру с парой сотен висюлек. Хомяк клянется, что приделает к ней моторчик и она будет вертеться. Распятие Карлсона.
И два торшера взять обязательно. Куда – непонятно, но знаю – пригодятся. Хомяк одобряет. Продавцы желают нам в Москве нечеловеческого успеха.
***
У меня есть койка, Леонард Коэн в плеере и тридцать шесть часов изоляции – роскошь, да и только. Над заснеженными избами Смоленской области светит белесое солнце. Я – это часть спецгруза на поезде «Берлин – Москва», не задокументированная в списке купленного. Бесплатное приложение. Вчера Хомяк вымазывал ботинки в уличной грязи под окном и вытирал их о коробки, сминая аккуратную магазинную упаковку; на коробках писал не своим, старческим кривым почерком «Колино старье» и «Мамин хлам». Вчера мы час охотились за тележкой на Лихтенбергском вокзале – вокзал маленький, они ему по статусу не положены. Зато если украсть тележку из привокзального супермаркета, на ней можно доехать до самого проводника, только бежать с тележкой надо так, как бежит Хомяк, по-спринтерски – иначе придется разбираться с охраной.
Бравый поджарый проводник радостно вытер лысину и приветствовал нас цифрой «сто пятьдесят». У бригады один рейс в две недели. Для проводника я с «Колиным старьем» т- птица счастья. Гуляем на все сто пятьдесят: Хомяк въезжает на тележке в вагон легко и радостно, как выпархивает на лед японская фигуристка, не успевает проводник икнуть. Несколько заездов – и рулоны обоев, ведра
золотой краски, тюки с пластиковыми буддами, скрученные трижды торшеры, лампы, занавеси, панели и многострадальная люстра невероятным мошенническим образом размещаются в купе. Мне остается левый нижний уголок окна, нижняя полка и узкая (только осторожно!) дорожка, по которой можно выползти в туалет. Я часть этого тетриса.
Позвонил Игорю в Москву, предупредил о масштабах бедствия – каким автогеном он будет меня отсюда вырезать? – и успокоился.
Польская таможенница открыла дверь, хотела «здрасте» сказать, но, оценив обстановку, немедленно дверь закрыла и ретировалась подобру-поздорову. Работать барышне не хотелось – а может, из чувства локтя не хотелось- поезд задерживать.
Белорусский мужчина с округлым бабьим лицом и испуганными глазками долго качал головой. Описывать и декларировать, декларировать и описывать. Ничего себе ремонт у вас дома. И обои тоже б/у? Нет-нет, декларировать решительно. Оплата на вокзале, в течение двух часов или трех, не могу сказать точнее. Честь белорусской таможни была полюбовно оценена в тридцать евро.
Брест, Минск, Смоленск – спал я крепко, и в дешевых наушниках старик Коэн сквозь сон повторял мне, что сначала Манхэттен, потом Берлин и всяк об этом знает, вот так оно: всяк знает – и ошибался безбожно.
Мой персональный хит-лист мерзких слов: «привоз», «отксерить» и «духовность». «Духовность» – значит, очередной видный деятель порет чушь, по простоте душевной или с осознанной целью (простите, мои учителя литературы, это не на вашем веку вошло в практику). «Отксерить» звучит будто мышь покакала. Привоз. Одесского Привоза не запомнил, в момент его посещения с мамой мне было года три. Но здесь не о рынке. Привоз – организация концерта западного артиста, иностранца, инопланетянина – любимое слово в местной клубной практике.
– Что у вас будет происходить?
– Регулярные привозы!
Жуть, да и только. Знают ли все эти фрэнки наклзы, что они для принимающей стороны – Памела Андерсон для Бората Сагдиева? Ну тот, положим, хоть искреннее чувство питал. В Москве же, ох, не по любви похищение невесты случается.
– Кто сегодня играет?
– Фрэнки Наклз!
– Кто??
– Иностранец!
– А-а!
И только те, кому несчастный Фрэнки Наклз зачем-то жизненно необходим, останутся за турникетом, не пройдя фейсконтроль.
Привоз блещет бойким шулерством и требуется в целях политических и репутационных – что внезапно роднит его с духовностью. Привоз грозит убытком площадке и заработком промоутеру: промотать чужие деньги с пользой для себя – созвучно названию профессии.
И самое ужасное, что этим словом я начинаю пользоваться сам.
Три четверти музыки, звучащей в ушах соотечественников, родом из этой страны. В моем ноутбуке, в автомобиле Игоря, в саунд-системах Юли, Олега, Антишанти, подозреваю, пропорция обратная. Я все не возьму в толк, как забить тридцать дней в расписании (триста шестьдесят пять для острастки) отечественными артистами, избежав посредственности, скуки, убожества. Я не дырки хочу затыкать и не селебритиз заманивать на коктейль при иностранном диджее. Хочу той музыки, которую слушаю сам, слушают мои друзья и друзья моих друзей. В десятимиллионном городе – неужто нас не соберется тысяча за вечер?