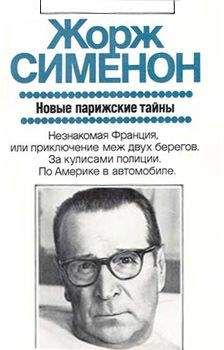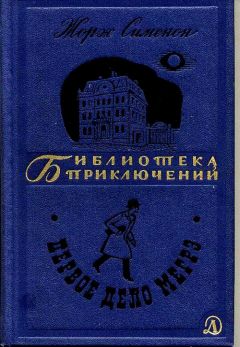Читатель книги не пройдет мимо, казалось бы, незначительного эпизода, о котором Сименон рассказывает, вспоминая о своей поездке в СССР в 1965 году: «У меня и сейчас перед глазами полная символики сцена на знаменитой лестнице в Одессе, где малышка подбежала к моему сыну и протянула розы. Что может быть прекраснее и прочнее на земле естественных душевных движений, дружбы и взаимного внимания!»
Виктор Балахонов
Во Франции и за ее пределами
Франция после кризиса[5] (перевод А. Смирновой)
I. В манере русского фильма.
Низкий женский голос, испуганный шепот:
— Кризис…
Твердые и суровые лица крестьян крупным планом на фоне пшеничных полей:
— Кризис…
Безработный бредет по шахтерскому поселку мимо черных труб, смотря в землю, чтобы не видеть того, что его ждет:
— Кризис…
Темп ускоряется, глухой, неотвязный: шум поезда, и в стуке вагонов слышится:
— Кризис…
Под аккомпанемент странноватой музыки проносятся беспорядочные кадры. Иногда шум заглушают голоса, но только для того, чтобы снова повторить:
— Кризис…
В кадре вагон поезда на пневматических колесах: Париж — Лилль, Париж — Рубе, Париж — Туркуэн. Силуэты пассажиров. Это северяне — высокие, крепкие, светловолосые.
— И что министр?
— Да он ничего в этом не понимает…
— А немецкие заказы на пятнадцать миллионов?
Поезд глухо выстукивает:
— Кризис… Кризис…
— Моль уже закрыл завод?
— Говорят, у Депра уволили шестьсот рабочих…
— А что в Мюлузе?
— С Мюлузом — все. С Кольмаром тоже. О них уже и речи нет.
Поезд идет по прекрасному Компьенскому лесу. Наплыв камеры. Другой поезд. Скорый Бордо — Париж. Вагон-ресторан. Стук вилок и подпрыгивающих тарелок.
— Господа, еще филе в мадере?
— Кризис… Кризис…
— Дебросс погорел?
— Да, пятнадцать миллионов в трубу…
И здесь такие же напряженные лица, но твердость чисто британская: бордосские торговцы помнят, что они потомки англичан.
— Мы продали в Рошфор по двадцать пять франков за гектолитр.
— Безье требует компенсацию за выкорчевку лоз.
— Тунис начал…
Едет поезд. Ему навстречу другой.
— Замша по три франка пятьдесят за фут…
— На рынке в Страсбуре кожа…
— Тем не менее завод уже три года закрыт.
Вокруг нас все разговаривают о коже, шкурах, обуви…
— Юре еще выдает две тысячи пар в день.
— Неужто? — сомневается какой-то скептик.
— Вот если бы правительство…
— В Меце дело дрянь…
Обувь — это Лимож, это Мец, Марсель, Бельвиль, Роман, Фужер, Ним и Тулуза.
За окнами скорого темнеет. В пропахшем рыбой Булонском поезде слышится:
— С торгов пошла «Мария Терезия»…
— Это тот самый траулер, который шесть лет назад стоил миллион?
— А продали за двадцать пять тысяч.
— Кризис… Кризис…
У торговца недвижимостью на улице Аркад машинистки по целым дням выстукивают:
«Продается красивый замок с парком…» «Прекрасный исторический замок…» «Двести тысяч, триста, четыреста…»
— Кризис… Кризис…
Эльзасские машиностроители, директора металлургических заводов, торговцы скотом, мелкие ремесленники…
Судебные исполнители сбились с ног. Пачки описей имущества. Человек знает, что его ждет. Но суды не торопятся:
— Не нажимайте! Терпение, терпение!
Во Дворце правосудия в сейфах скапливаются тысячи чеков без обеспечения.
— Кризис… Кризис…
У меня раскалывается голова, сердце болит от этого вагонного скрежета, от всех этих людей, которые разговаривают, кричат, жалуются, угрожают.
— Кризис…
Вот уже много недель подряд я езжу с Севера на Юг, из Булони в Лимож, из Марселя в Страсбур, из Нанси в Бордо, останавливаюсь на фермах, в мастерских, у зеленщиков и нотариусов.
— Кризис? Банкротство?
С тех пор, как все кругом заговорили о кризисе и банкротстве, я хочу все-таки знать, чем же это кончится. Чем все это кончится для Франции, понимаете?
— Так вы говорите, кризис?..
— Ах, не надо об этом! Это ужасно!
— Вы разорены?
— Ну, не то чтобы…
— Так сколько вы нажили с тысяча девятьсот двадцать пятого по тридцатый год?
— Но позвольте…
— А сколько потеряли за это время?
— Но…
— А сколько выручили за каждую тонну обработанного сырья?
— Но…
— Так во сколько, говорите, вам обошелся товар, который вы продаете за десять франков? И давно ли вы почувствовали в себе крупного промышленника и коммерсанта? А деньги где взяли? И что у вас останется, когда кризис кончится? Вы, надеюсь, позаботились о том, чтобы как-то удержаться на плаву? А что вы сделали, чтобы во Франции царил порядок?
У меня ватные колени, тяжелая голова, сухо во рту. Я измеряю километры от завода к заводу: одни пусты, как соборы, другие еще гудят. Я спорю, слушаю, смотрю вокруг и даже умудряюсь шарить по закоулкам.
— Кризис… Кризис…
Из Парижа он казался мне отвратительнейшим из чудовищ. Я видел, как вокруг под грохот машин и крики ужаса рушатся мир и цивилизация.
Зерно, которое… Вино, которое… Шерсть… И медь… И корабли… И что хуже всего…
Я совершенно спокоен, только где-то в уголках глаз затаилась робкая искорка иронии.
— Видите ли, кризис — это…
Только не приписывайте мне того, чего я не говорил. Разве я сказал, что кризиса нет? Более того, я готов совершенно искренне прослезиться над участью тех, кто…
Но, в конце концов, есть кризис и кризис, есть жертва и жертва. Когда в детстве я случайно толкал моего младшего брата, а происходило это в полукилометре от дома, он только зло смотрел на меня и шипел:
— Ну, смотри…
И шел, бормоча угрозы, без единой слезинки. И только на пороге дома — бедная жертва! — разражался безудержными рыданиями, прежде чем броситься в объятия матери.
Есть слезы и слезы. Есть кризис и кризис. Есть банкротство и банкротство.
Во всяком случае, могу сказать, что если и есть сейчас что-то, что не переживает банкротства, так это — Франция. По крайней мере — пока. Этого и не случится, если мы попросим прогуляться кое-кого из тех господ, которые…
Заметьте, это говорю не я. Это говорят люди в городах и деревнях, на заводах и в портах Франции, которым приходится не болтать и заседать, а делать что-то своими руками.
Кризис… Кризис…
А не угодно ли прогуляться от Лилля до Безье и от Бордо до Безансона и поглядеть, кто же настоящие жертвы?
И не желаете ли безо всякой статистики и теории сделать опись Франции — от подвала до чердака?
И узнать, в конце концов, не рано ли заговорили о банкротстве? И решить, сохранит ли страна жизнеспособность, вне зависимости от того, что ждет нас завтра — банкротство, соглашение между кредиторами и должниками или новый подъем.
II. Продается замок. Сдается ферма. Как разоряются имения и поместья
Если бы эту историю рассказывал Бальзак, она заняла бы два-три тома. Я же расскажу ее как нотариус и попытаюсь уложиться в одну-две статьи.
Место действия: Ла-Юшри. Небольшой замок, какие некогда тысячами произрастали во Франции: собственно жилище с башней, ферма, службы, пруд, роща и гектаров сорок вполне приличной земли.
Назвать вам и провинцию? Допустим, Анжу, или Бос, или Бурбоннэ, или Пуату, или Перигор, где, как мы знаем, тысячи подобных имений.
Итак, Ла-Юшри стоит сейчас около ста тысяч франков, даже чуть меньше. Имение принадлежит Бобурам, это крупные буржуа из соседнего городка, они проводят здесь каждое лето с детьми и — уже! — внуками. Качели, воспоминания детства, сбор орехов, порванные ветками брюки.
Землю для Бобуров обрабатывает арендатор. Здесь он родился. У него на глазах родились все дети Бобуров.
Хозяевам на их городскую квартиру он доставляет дрова, молоко, свежие яйца и сыр.
Это папаша Гролье, волосатый, ворчливый усач, вечно орущий на лошадей.
Один из Бобуров был убит. Трое разъехались. Обе дочери вышли замуж и тоже уехали. Мать овдовела, и летом при ней теперь лишь несколько внучат.
Коровы, которые в 1917 году стоили триста франков, неожиданно подорожали до трех тысяч и даже больше, и папаша Гролье решил из арендатора сделаться фермером. Он арендует землю за двенадцать тысяч франков в год и возделывает ее, ничего при этом не меняя в своем образе жизни, не вылезая из своей задымленной кухоньки и старой двуколки, запряженной одноглазой клячей.
Бобуры все реже и реже приезжают в Ла-Юшри. У сыновей свои заботы. Один служит в банке, другой сейчас в армии, третий вообще ничего не делает. А зятю нужны деньги, чтобы надстроить гараж.
Ла-Юшри стоит не сто тысяч франков, а все пятьсот, и это по самой низкой оценке. Но замок давно обветшал, стены потрескались, а старая крыша вот-вот обвалится.