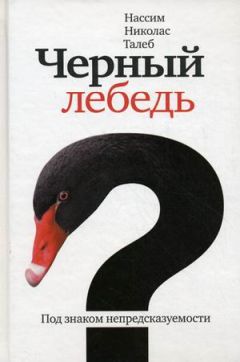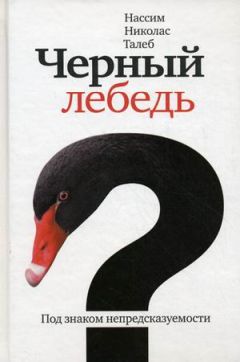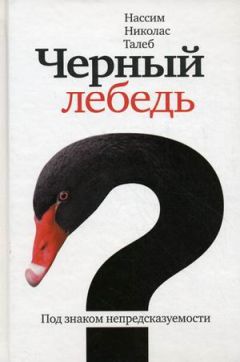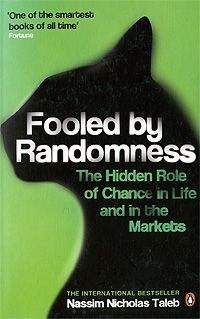Вот как я впервые столкнулся с ретроспективным искажением. В детстве я был страстным, хотя и неразборчивым читателем; первый этап войны я провел в подвале, глотая одну за одной самые разные книги. Школа закрылась, снаряды падали градом. В подвалах чудовищно скучно. Поначалу я больше всего беспокоился о том, как справиться со скукой и что бы еще почитать[9], — хотя читать только потому, что больше просто делать нечего, далеко не так приятно, как читать, когда к этому расположен. Я хотел стать философом (я и сейчас этого хочу), поэтому решил для начала под завязку накачать себя чужими идеями. Обстоятельства побуждали меня к изучению теоретических и общих работ о природе войн и конфликтов; я пытался проникнуть в нутро Истории, понять механизм той гигантской машины, которая генерирует события.
Как ни странно, книгу, которая на меня сильно повлияла, написал не какой-нибудь там мыслитель, а журналист. Это был "Берлинский дневник. Записки иностранного корреспондента, 1934-1941 Уильяма Ширера. Ширер был радиокорреспондентом, автором нашумевшей книги "Взлет и падение Третьего рейха". "Записки" поразили меня необычным взглядом на вещи. К тому времени я уже читал труды (или о трудах) Гегеля, Маркса, Тойнби, Арона и Фихте о философии истории и ее свойствах; мне казалось, что я худо-бедно представляю себе, что такое диалектика. Понял я немного — разве что то, что у истории есть некоторая логика и что развитие идет через отрицание (или противопоставление) так, что человечество постепенно идет ко все более высоким формам общественного развития — что-то в этом роде. Это все ужасно напоминало разглагольствования о ливанской войне. Когда мне задают дурацкий вопрос, какие книги "сформировали мое мышление", я до сих пор удивляю людей, говоря, что эта книга (нечаянно) научила меня главному из того, что я знаю о философии и теоретической истории — и, как мы увидим в дальнейшем, о науке тоже, поскольку я уяснил себе разницу между прямым и обратным процессом.
Как? Очень просто: дневник описывал события в их течении, а не задним числом. Я торчал в подвале, и история оглушительно громыхала над моей головой (артобстрел не давал мне спать по ночам). Я, подросток, ходил на похороны одноклассников. История не в теории проезжалась по моей шкуре, и читал я про человека, который явно переживал историю, находясь в ее гуще. Я пытался представить себе картину будущего и понимал, что она неясна. И еще я понимал, что, если когда-нибудь захочу написать о событиях тех дней, они предстанут более... историческими. Между до и после лежала пропасть.
Ширер сознательно писал свой дневник, еще не зная, что произойдет потом, — когда информация, доступная ему, не была искажена последствиями. Некоторые комментарии были весьма познавательными, особенно те, что иллюстрировали уверенность французов в недолговечности власти Гитлера, — отсюда их неподготовленность и скорая капитуляция. Никто не догадывался о масштабах грядущей катастрофы.
Память у нас крайне нестойкая, но дневник фиксирует реальные факты, которые заносятся на бумагу по более или менее свежим следам. Он позволяет зафиксировать непосредственное впечатление и позже изучить события в их собственном контексте. Повторю, что важнее всего — сознательно выбранный способ описания события. Не исключено, что Ширер и его редакторы могли и схитрить, потому что книга была опубликована в 1941 году, а издатели, как мне говорили, имеют обыкновение приспосабливать тексты к вкусам массового читателя, вместо того чтобы точно воспроизводить мысли автора, свободные от ретроспективных искажений. (В сущности, редакторская правка может очень сильно исказить картину, особенно когда автору достается так называемый "хороший редактор".) Тем не менее знакомство с книгой Ширера дало мне интуитивное понимание механизмов истории. Ведь накануне Второй мировой войны в воздухе, казалось бы, должно было висеть предчувствие грандиозной катастрофы. И ничего подобного![10]
Дневник Ширера оказался тренингом по динамике неопределенности. Я хотел стать философом, не представляя себе, чем зарабатывают на жизнь современные философы. Поэтому я пустился в авантюру (вернее, в авантюрные эксперименты с неопределенностью) и принялся штудировать математику и другие науки.
Образование в такси
Третий элемент триады — проклятие обучения — я представлю следующим образом. Я внимательно наблюдал за своим дедом, который занимал посты министра обороны, потом министра внутренних дел и в начале войны, перед закатом своей политической карьеры, вице-премьера. Несмотря на свое положение, он не больше знал о том, что произойдет, чем его водитель Михаил. Однако, в отличие от деда, Михаил все свои прогнозы сводил к словам: "Одному Богу известно", признавая тем самым, что понимание — прерогатива высшей инстанции.
По моим наблюдениям, очень умные и образованные люди строили прогнозы ничуть не лучше таксистов, но с одной принципиальной разницей. Таксисты не воображали, будто понимают столько же, сколько интеллигенты, и на роль экспертов не претендовали. Никто ничего не знал, но специалистам мнилось, будто они знают больше других, поскольку само собой разумеется, что специалист всегда образованнее неспециалиста.
Дело не только в знании; информация тоже может быть сомнительным преимуществом. Я заметил, что почти все были в курсе мельчайших подробностей происходящего. Газеты до такой степени дублировали друг друга, что чем больше ты читал, тем меньше получал информации. Но люди так боялись упустить какой-нибудь новый факт, что прочитывали каждый свежий номер, слушали каждую радиостанцию, словно ожидая великого откровения от очередной сводки новостей. Они превратились в ходячие энциклопедии, напичканные сведениями о том, кто с кем встречался и что один политик сказал другому (и даже с каким выражением: "Не кажется ли вам, что он несколько сбавил тон?"). И все без толку.
БЛОКИ
Во время ливанской войны я также заметил, что журналисты имеют тенденцию группироваться, причем не столько вокруг одинаковых мнений, сколько вокруг одинаковых методик анализа. Они придают значение одним и тем же наборам обстоятельств и подразделяют реальность на одинаковые категории (опять проявление платонизма, потребности разложить все по полочкам). Эту умственную заразу усугубило то, что Роберт Фиск называет "гостиничной журналистикой". Если в прежней журналистике Ливан был частью Леванта, то есть Восточного Средиземноморья, то теперь он внезапно стал частью Ближнего Востока, как будто кто-то умудрился перенести его поближе к пескам Саудовской Аравии. Остров Кипр, расположенный примерно в шестидесяти милях от моей деревни на севере Ливана, с почти идентичной кухней, верой и обычаями, внезапно сделался частью Европы (конечно, местные жители с обеих сторон подверглись соответствующей психологической обработке). Прежде черта проводилась между Средиземноморьем и не-Средиземноморьем (то есть между оливковым и сливочным маслом), а в 1970-е годы она вдруг разделила мир на Европу и не-Европу. Поскольку границу между ними обозначил ислам, никто не знал, куда отнести арабов христианского (и иудейского) вероисповедания. Категоризация необходима людям, но она оборачивается бедой, когда в категории начинают видеть нечто окончательное, исключающее зыбкость границ — не говоря уже о пересмотре самих категорий. И всему виной была заразность заболевания. Если бы вы нашли сотню независимо мыслящих журналистов, способных оценивать ситуацию самостоятельно, вы бы получили сотню разных мнений. Но, поскольку в своих донесениях репортеры вынуждены были идти "ноздря в ноздрю", диапазон мнений сильно сужался — все начинали мыслить в унисон.
Если вы хотите понять мою мысль об условности категорий, взгляните на ситуацию с поляризованной политикой. В следующий раз, когда прилетят марсиане, попробуйте объяснить им, почему сторонники уничтожения плода в материнской утробе вместе с тем являются противниками смертной казни. Или почему принято считать, что защитники абортов выступают за повышение налогов, но против сильной армии. Почему поборники сексуальной свободы обязательно должны быть врагами индивидуальной экономической свободы?
Я обратил внимание на абсурдность таких связок-блоков еще в юности. По иронии судьбы, в той гражданской войне в Ливане христиане оказались сторонниками свободного рынка и капитализма (то есть теми, кого журналисты называют "правыми") — а исламисты превратились в социалистов и получали поддержку от коммунистических режимов ("Правда", орган коммунистической партии, называла их "борцами за свободу", хотя позже, когда русские вторглись в Афганистан, уже американцы искали контактов с Бен Ладеном и его мусульманскими братьями).