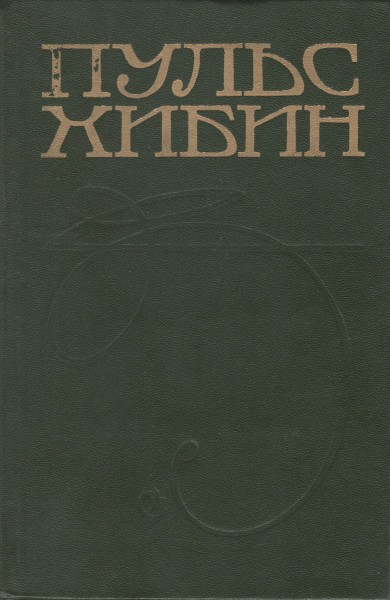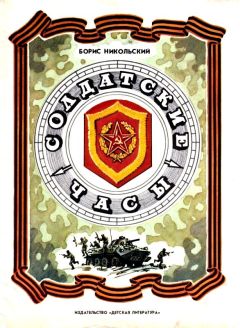закрылись белыми одеялами. Имандра горит, разгорается румянцем во сне, и близится время волшебных видений в стране полуночного солнца. Что грезится теперь этим горам? Да, конечно, они и видят вот то, что я сейчас вижу, — это все сон.
На озере человек в челноке. Чего-то ждет. Он первый здесь. А вот и деревья и горы подступают к тихому озеру. Звери вышли из леса, рыбы из воды. Месяц прислонился у березы. Солнце у окошка замка стало.
Зазвенели струны кантеле. Запел человек.
Пел дела времен минувших, пел вещей происхожденье.
Просыпаюсь... Солнца не видно в мое окошко, так оно высоко поднялось уже. Опять я не видел полуночного солнца. Василий сидит у камелька и отливает в деревянную форму пули на диких оленей. Сегодня мы будем ночевать в горах и охотиться.
В горах есть озеро, к которому лопари питают суеверный страх. Это озеро со всех сторон защищено горами и потому почти всегда тихое, спокойное. Высоко над водой есть пещера, и там живут злые духи. В том озере множество рыбы, но редко кто осмелится ловить там. Нельзя: при малейшем стуке весла злые духи вылетают из пещеры. И вот один молодой ученый из финской ученой экспедиции собрал лопарей на это озеро и принялся стрелять из ружья в пещеру. Вылетели несметные стаи птиц, черных и белых, но ничего не случилось.
С тех пор лопари там не боятся стукнуть веслом и ловят много рыбы.
Хорошо бы побывать внутри этой пещеры и оттуда посмотреть на полуночное солнце. Но это и далеко, и в самую пещеру почти невозможно добраться. Василий советует удовлетвориться ущельем Им-Егор — не менее мрачным, но доступным. В этом ущелье мы переночуем, войдем через него внутрь Хибинских гор и по Гольцовой реке вернемся опять к Имандре.
Пока мы набиваем патроны, готовим пищу, собираемся, Имандра уже опять приготовляется встречать вечер и солнечную ночь.
Неужели опять случится что-нибудь, почему я не увижу солнечную полночь: дождь, туман или просто мы не успеем выбраться из леса в горы? Чтобы выбраться из ущелья, нужно часа два ехать на лодке и часа три подниматься в гору. Теперь шесть.
— Скорей, скорей, — тороплю я Василия.
Скользим на лодке по тихому озеру: ни малейшего звука, даже чаек нет. Ущелье видно издали; оно разрезает черную каменную гряду наверху. Снизу, с озера, оно вовсе не кажется таким мрачным, как рассказывают: просто — это ворота, вход в эту черную крепость. Гораздо таинственнее и мрачнее этот лес у подножия гор. Те мертвые, но лес-то живой и все-таки будто мертвый.
Мы причаливаем к берегу, входим в лес: гробовая тишина! В нем нет того зеленого радостного сердца, о котором тоскует бродяга, нет птиц, нет травы, нет солнечных пятен, зеленых просветов. Под ногами какие-то мягкие подушки, за которыми нога ощупывает камень, будто заросшие мхом могильные плиты.
С нами идут в горы двое лопарей: Василий с сыном; остальные разводят костер у берега Имандры, садятся вокруг костра и начинают играть в карты. Завтра они встретят нас в устье Гольцовой реки.
Я надеваю сетку от комаров; от этого лес становится еще более мрачным. С плиты на плиту, выше и выше мы поднимаемся по этому северному кладбищу. Дальше и дальше взрывы смеха лопарей, играющих в дурачки. Разве тут можно смеяться! Это странный, жуткий смех.
Мы вступаем в глубь леса с ружьями, заряженными пулями и дробью. Мы тут можем встретить каждую минуту медведя, дикого оленя, росомаху; глухарей наверно встретим, сейчас же встретим. Но я даже и не готовлю ружья. Я повторяю давно заученные стихи:
Пройдя полпути своей жизни,
В минуту унынья вступил
Я в девственный лес.
Это вход в Дантов Ад. Не знаю, в каком мы кругу.
Комары теперь не поют, как обыкновенно, предательски-жалобно, а воют, как легионы злых духов. Мой маленький Вергилий с кривыми ногами, в кривых башмаках, не идет, а скачет. У него вся шея в крови. Мы бежим, преследуемые диаволами Дантова Ада.
В чаще иногда бывают просветы; бежит ручей; возле него группа деревьев, похожих на яблони. И нужно подойти вплотную к ним, чтобы понять, в чем дело: это березы здесь так растут, совсем как яблони.
У одного такого ручья мы замечаем тропинку, как раз такую, какие у нас прокладывают богомольцы и другие пешеходы у краев полей. Это оленья тропа. Теперь мы бежим по этой тропе в расчете встретить гонимого комарами оленя. Но я совсем не думаю об охоте... Как только мы выбежим из леса, тут и будет конец всего, — голые скалы и сияние незаходящего солнца. Я совсем не думаю ни о птицах, ни о зверях. Вдруг перед нами на тропу выбегает птица, куропатка, и быстро бежит не от нас, а к нам. Как это ни странно, ни поразительно для меня, не видавшего ничего подобного, но, подчиняясь той атавистической силе, которая на охоте мгновенно переделывает культурного человека в дикого, я навожу ружье на бегущую к нам птицу.
Василий останавливает меня.
— У нее детки: нельзя стрелять, надо пожалеть.
Куропатка подбегает к нам, кричит, трепещет, бьет крыльями по земле. На крик выбегает другая, такая же. Обе птицы о чем-то советуются: одна бежит прямо в лес, а другая — вперед по тропе и оглядывается на нас, будто зовет куда-то. Мы остановимся — она остановится; мы идем — и она катится впереди нас по тропе, как волшебный колобок. Так она выводит нас на полянку, покрытую травой и березками, похожими на яблони, — останавливается, оглядывает нас, кивает головой и исчезает в траве. Обманула, завела нас на какую-то волшебную полянку с настоящей, как и у нас, травой и с яблонями и исчезла.
— Вот она, смотри, вот там пробирается, — смеется Василий.
Я присматриваюсь и вижу, как за убегающей птицей остается след шевелящейся травы.
— Назад бежит, к деткам. Нельзя стрелять. Грех!
Если бы не лопарь, я бы убил куропатку и не подумал бы о ее детях. Ведь законы, охраняющие дичь, действуют там, где она переводится; их издают не из сострадания к птицам. Когда я убиваю птицу, я не чувствую сострадания. Я чувствую его, когда думаю об этом... Но я не думаю. Разве можно думать об этом? Ведь это же