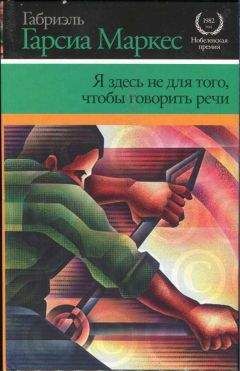и сколько денег я заработал. Я не стану пересказывать наш разговор, потому что все сказанное мной принадлежит теперь не мне, а ему. Но не могу не уступить искушению поведать о том, что окрылило меня во взбаламученной реке моей нынешней частной жизни, заполненной почти исключительно ответами (по нескольку раз в день) на одни и те же всегдашние вопросы. Мало того – на одни и те же всегдашние вопросы, с каждым днем имеющие все меньшее отношение к моему ремеслу. А вот Шеппард так же естественно, как дышал, погружался в самые потаенные глубины литературного творчества, так что после его ухода меня охватила ностальгия по тем временам, когда жизнь была проще и нам доступно было наслаждение тратить многие часы на разговоры о литературе.
И все же из всего, о чем говорено было тогда, мне врезалась в память фраза Борхеса, что, мол, нынешние писатели думают о провале или успехе. Эти же самые и иные слова я без счета повторял молодым писателям, встречавшимся мне в этом мире. И у многих, хоть, по счастью, и не у всех, видел я идиотическое стремление дописать роман к сроку очередного конкурса. Видел, как легко падают они духом, получив неприязненный отзыв в прессе или отказ в издательстве. Однажды я услышал от Марио Варгаса Льосы такое, что совершенно сбило меня с толку: «Садясь писать, всякий писатель решает, будет ли он хорошим писателем или плохим». Между тем спустя несколько лет ко мне в Мехико пришел паренек двадцати трех лет от роду, который за полгода до этого выпустил свой первый роман, а накануне вручил издателю второй и оттого в этот вечер чувствовал себя триумфатором. Я высказал легкую озабоченность по поводу скорости, с какой совершался этот карьерный взлет, а он ответил мне с цинизмом, который, как мне хочется сейчас верить, был невольным: «Это тебе приходится долго думать перед тем, как написать что-нибудь, потому что все, затаив дыхание, ждут, что́ же ты напишешь. А я могу писать быстро – меня еще очень мало кто читает». И тут во внезапном озарении я постиг смысл того, что имел в виду Льоса: этот паренек решил быть плохим писателем, захотел стать плохим писателем – и был им до тех пор, пока не нашел себя в торговле подержанными автомобилями и решил, что больше не станет тратить время на бумагомарание. А теперь я думаю, что судьба его могла бы сложиться иначе, если бы перед тем, как научиться писать, он бы научился говорить о литературе. В наши дни в ходу такое выражение «Поменьше дела – побольше слов». Выражение это применяется главным образом по адресу бесчестных политиканов. Однако и для писателей сгодится.
Несколько месяцев назад я сказал Хоми Гарсии Аскоту, что лучше самой музыки могут быть лишь разговоры о музыке, а сегодня вечером был готов уже повторить это и в отношении литературы. И тотчас одернул себя. Потому что лучше разговоров о литературе может быть только творить ее.
9 февраля 1983 года, «Эль Паис», Мадрид
С третьего по четвертое десятилетие нашего века существовала в Боготе газета, подобной которой, кажется, не знала история. Дважды в день на балкон редакции «Эспектадор» выставлялось некое подобие классной доски, на которой школьным же мелом записывались новости последнего часа. Этот угол проспекта Хименеса де Кесады и Карреры Септимы – на протяжении многих лет считавшийся лучшим в Колумбии перекрестком – был самым оживленным местом в городе, особенно в часы, когда появлялась доска с новостями – в полдень и в пять вечера. В нетерпеливом ожидании последних известий собиралась такая толпа, что трамваи едва могли проехать, а то и вовсе останавливались.
Кроме всего прочего, у этих уличных читателей имелась возможность (которой мы теперь лишены) бурными рукоплесканиями встречать появление новостей отрадным свистом – тех, что им не нравились, и градом камней – тех, что шли вразрез с их интересами. Это была отличная, активная и спонтанная форма соучастия, благодаря чему «Эспектадор» – утренняя газета, патронировавшая табло, – получала верный термометр и могла узнавать, до какого градуса накалилось общественное мнение.
В ту пору телевидения еще не существовало, а выпуски новостей хоть и были исчерпывающими, но звучали в строго определенные часы, а потому, прежде чем идти обедать или ужинать, человек ожидал появления доски, чтобы получить ясное и полное представление о том, что происходит в мире. Однажды так было получено – и встречено ропотом изумления – известие о том, что в результате столкновения двух самолетов погиб в Медельине Карлос Гардель. Когда новости были такого масштаба, доска обновлялась в неурочное время, чтобы этими чрезвычайными бюллетенями утолить снедавшую граждан жажду информации. Почти всегда такое проделывалось во время выборов или когда Конча Венегас совершал свой знаменитый перелет Лима – Богота, все перипетии которого час за часом отражались на доске. 9 апреля 1948 года в час дня был убит на месте тремя меткими выстрелами популярный политик Хорхе Элиэсер Гайтан. Никогда еще за всю бурную историю доски событие такого масштаба не касалось ее так непосредственно и прямо. А отозваться на него уже не было никакой возможности: «Эспектадор» к этому времени переехал в другое здание, изменились информационные технологии и обычаи, и лишь мы, замшелая кучка, со сладкой тоской вспоминали времена, когда мы по доске, появлявшейся на балконе, узнавали, что пробило полдень или пять.
Сейчас в редакции «Эспектадора» никто уже не помнит, кто же все-таки первым в угрюмом захолустье тогдашней Боготы додумался до такой прямой и потрясающей версии современной журналистики. Известно, впрочем, что обязанности ответственного редактора исполнял паренек двадцати с небольшим лет, которому суждено было стать одним из лучших колумбийских журналистов – притом что он окончил лишь начальную школу. Сегодня, когда исполняется полвека его профессиональной деятельности, все мы, его земляки, знаем, что звали его – и звать продолжают – Хосе Сальгаром.
Как-то вечером, на редакционном чествовании, он сказал – скорее всерьез, чем шутя, – что по поводу своего юбилея услышал при жизни те похвалы, какие обычно причитаются только покойникам. Он, наверно, не услышал все же, что самое поразительное в его творческой жизни не то, что она длится уже пятьдесят лет (подобное происходит со многими стариками), а как раз наоборот: то, что вступил он на эту стезю в этой самой газете в 12 лет, а до этого почти два года пытался устроиться репортером. Да, в том далеком 1939 году Хосе Сальгар,