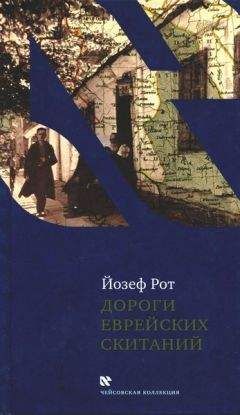Ему верят многие. Он же, ребе, не различает между самыми и не самыми верными исполнителями писаных заповедей; не различает даже между евреем и неевреем, между человеком и животным. Пришедший к нему уверен в помощи. Ребе знает больше, чем он вправе сказать. Ребе знает, что над этим миром царит другой, с другими законами, и, возможно, он даже подозревает, что запреты и заповеди в этом мире имеют смысл, в другом же теряют значение. Для ребе самое главное — соблюдать неписаный, но тем более непреложный закон.
Они осаждают его жилище. Дом цадика обычно просторней, светлее и шире неказистых еврейских лачуг. Иные содержат при себе целый двор. Жены цадиков ходят в дорогих платьях и повелевают служанками, имеют лошадей и конюшни — и все не для удовольствия, а для представительности.
Стояла поздняя осень, когда я отправился навестить ребе. Поздняя восточная осень, еще теплая, дышащая высоким смирением, окрашенная в золото отречения. Я встал в пять часов утра. С лугов поднимался влажный холодный туман, по спинам заждавшихся лошадей пробегал озноб. Вместе со мной в крестьянской телеге сидели пять евреек. Закутанные в черные шерстяные платки, они казались старше своего возраста — житейские тяготы наложили печать на их фигуры и лица; еврейки были торговками и продавали по домам зажиточных горожан битую птицу, зарабатывая гроши. Все они везли с собой малых ребят. На кого оставить детишек в такой день, когда вся округа отправилась к ребе?
С восходом солнца мы добрались до местечка, где жил ребе, и увидели, что толпы людей успели приехать до нас. Приезжие обретались в местечке не первый день и спали вповалку в сенях, в сараях и на сеновалах; местные евреи обделывали выгодные дела и за приличные деньги устраивали чужих на ночлег. Большой постоялый двор оказался переполнен. Улица была изрыта ухабами, мостовую заменяли гнилые заборные доски, и повсюду на этих досках сидели, примостясь на корточках, люди.
По одежде: полушубку и высоким сапогам наездника — меня принимали за одного из страшных местных чиновников, который одним мановением руки может упечь тебя за решетку. Люди расступались, пропуская меня вперед и дивясь моей вежливости. Перед домом ребе стоял рыжий еврей-церемониймейстер: на него с мольбами, проклятьями, тряся денежными купюрами, наседала толпа, но он, облеченный властью, не знал пощады и с подобающей бесцеремонностью раздавал подзатыльники как умоляющим, так и бранящимся. Иногда он даже брал у кого-нибудь деньги, а потом все равно не пускал — то ли забывая, у кого взял, то ли делая вид, что забыл. Восковую бледность его лица оттеняла круглая шляпа из черного бархата. Медно-рыжая свалявшаяся борода на подбородке торчала торчком, а по щекам сползала редкими клочьями, вроде драной подкладки, и вообще росла как придется, презирая всякий порядок, предусмотренный природой для бороды. У еврея были маленькие желтые глазки, глядевшие из-под редких, едва заметных бровей, резкие широкие скулы, выдававшие примесь славянской крови, и бледные, голубоватые полоски губ. Когда он кричал, становились видны его крупные желтые зубы, а при очередном пинке из рукава выпрастывалась дюжая, поросшая рыжей щетиной ручища.
Я сделал этому человеку рукой недвусмысленный знак: мол, дело из ряду вон, нужно потолковать с глазу на глаз. Еврей быстро закрыл входную дверь и через секунду уже шагал, пробивая себе дорогу среди толпы, ко мне навстречу.
— Я приехал издалека, из чужих краев, и хочу повидать ребе. Но много денег заплатить не могу.
— У вас больной? Вы хотите молитвы за его здоровье? Или у вас дела плохи? Так напишите записку — и ребе прочтет и помолится за вас.
— Нет, мне надо с ним увидеться!
— Ну так приезжайте же после праздников?
— Не могу. Мне надо увидеться с ним сегодня!
— Ну тогда ничем не могу помочь… или идите с кухни!
— А где кухня?
— С другой стороны.
«С другой стороны» уже ждал барин, заплативший, верно, немалые деньги. О, это был барин, барин во всех отношениях! Барство сказывалось во всем: в дородной фигуре, в шубе, во взгляде — и не то чтобы ищущем, и не то чтобы сосредоточенном. Барин точно знал, что минут через пять, самое позднее — через десять, дверь кухни откроется.
Правда, когда она в самом деле открылась, богатый барин слегка побледнел. По темному коридору с бугристым полом мы двинулись вперед: барин зажигал спички, но ступал неуверенным шагом.
Он просидел у ребе довольно долго и вышел в прекрасном расположении духа. Позже я узнал, что у этого господина заведено раз в год проходить к ребе через кухню, что он богатый торговец нефтью, владеет скважинами и тратит на бедных такие деньги, что может, не страшась наказания, уклоняться от массы разных обязанностей.
Ребе сидел в голой комнате за небольшим столом перед окошком с видом во двор. Левой рукой он облокачивался на стол. У него были черные волосы, короткая черная борода и серые глаза. Его нос, словно повинуясь неожиданному порыву, прямо-таки выпрыгивал из лица, становясь к концу широким и плоским. У ребе были худые костлявые руки и белые острые ногти.
Ребе громко спросил, зачем я пришел, окинул меня быстрым взглядом и сразу же перевел глаза в окно.
Я ответил, что хотел его повидать и что наслышан о его мудрости.
— Бог мудр! — сказал ребе и снова взглянул на меня.
Затем он жестом подозвал меня к столу, протянул руку и сердечным тоном старого друга промолвил: «В добрый час!»
Тем же путем я вернулся обратно на кухню. Рыжий торопливо хлебал деревянной ложкой фасолевый суп. Я дал ему деньги. Левой рукой он принял купюру, а правой, не отрываясь от еды, поднес ко рту ложку.
На улице он догнал меня с расспросами. Ему не терпелось узнать, что творится в мире и не вооружается ли Япония к новой войне.
Мы с ним потолковали про войны и про Европу. Он сказал: «Я слышал, будто японцы — не гои, не как европейцы. Так и чего же они воюют?!»
Думаю, от такого вопроса любой японец пришел бы в смущение и вряд ли нашелся бы что ответить.
А потом оказалось, что в этом маленьком городке живут сплошь рыжие евреи. Через две-три недели они отмечали праздник Торы[18], и я видел, как они танцевали. То не был танец вырождающегося рода. И не только энергия фанатичной веры — в религиозном обряде рвалось наружу само здоровье.
Хасиды брались за руки, плясали в кругу, распускали круг, били в ладоши, мотали в такт головами и, подхватив свитки Торы, кружили их, словно девушек, прижимая к груди, целуя и плача от радости. В танце сквозило эротическое желание. Меня глубоко тронула картина того, как целый народ приносит на алтарь своего Бога чувственную радость, а Книгу строжайших законов обращает в возлюбленную, не различая, сводя воедино телесное вожделение и духовное наслаждение. Страстность и сладострастие, танец и богослужение, всплеск чувственности и молитву.
Из огромных кувшинов хасиды пили медовую настойку. Откуда пошел ложный слух, будто еврей не умеет пить? Тут к восхищению подмешивается укор, недоверие к племени, которому вменяют в вину рассудочность. Но здесь я своими глазами видел, как евреи теряют рассудок, — правда, не после трех кружек пива, а после пяти кувшинов крепкой настойки, и не по случаю военной победы, а от радости, что Господь наделил их Законом и знанием.
А еще раньше я видел, как они теряли рассудок во время молитвы. Дело происходило на Йом-Кипур. В Западной Европе его называют Днем примирения — уже в одном этом названии проявляется вся готовность западного еврея к компромиссу. Йом-Кипур — это не день примирения, а день расплаты; трудный день, двадцать четыре часа которого вмещают в себя двадцать четыре года покаяния. Он начинается накануне, в четыре часа пополудни. В каком-нибудь городе с подавляющим большинством еврейского населения этот главный еврейский праздник напоминает бурю, застигшую тебя в утлом суденышке в открытом море. В переулках резко темнеет: во всех окнах разом меркнет свет, и тут же, с боязливой поспешностью, захлопываются ставни — так невероятно прочно и наглухо, что кажется, теперь их откроют только в день Страшного суда. Все вокруг прощаются с мирскими делами: с гешефтом, с радостью, с природой и пищей, с улицей и семьей, со знакомыми и друзьями. Люди, которые всего два часа назад в повседневных одеждах, с будничным выражением лица ходили по улицам, сейчас, изменившись до неузнаваемости, спешат к дому молитвы: в тяжелых черных шелках, сверкая страшной белизной своих саванов, в белых носках и шлепанцах, опустив головы, перекинув через руку молитвенное облачение; и глубокая тишина, которая в этом по-восточному шумном городке в сто раз ощутимей, чем в любом другом, заставляет умолкнуть даже детишек, чьи вопли задают в музыке будней главную ноту. В эту минуту все отцы благословляют детей. Все женщины плачут, склонясь над серебряными светильниками. Друзья обнимают друг друга. Недруги просят друг у друга прощения. Хор ангелов трубит, созывая на суд. Скоро Иегова откроет большую книгу, где записаны грехи, наказания и судьбы этого года. За всех мертвых сейчас горят свечи. Другие свечи горят за живых. Лишь один шаг отделяет мертвых от этого мира, а живых — от мира потустороннего. Начинается большая молитва. Пост начался уже час. назад. Сплошными рядами, клонясь друг к другу, сливаясь в одно большое пламя, горят сотни, тысячи, десятки тысяч свечей. Из тысяч окон рвутся на улицу надсадные молитвы, перебиваемые тихими, нежными потусторонними мелодиями, подслушанными где-то на небесах. Во всех молельнях голова к голове стоят люди. Иные кидаются на пол и долго лежат, потом, поднявшись, присаживаются на каменные плиты, на низенькие скамеечки, затем снова вскакивают и, раскачиваясь всем туловищем, принимаются бегать взад и вперед по крохотному пятачку пространства — без остановки, точно исступленные стражи молитвы, — и все дома, все молельни наполнены белыми саванами, нездешними живыми, оживающими мертвецами, и ни одна капля не смочит сухих губ, не освежит глоток, исторгающих — не в этот мир, а в надмирное пространство — столько крика и боли. Эти люди сегодня ничего не будут есть, и завтра тоже не будут. Страшно подумать, что никто в этом городе ни сегодня, ни завтра не будет ни есть, ни пить. Все вдруг обратились в призраков, со всеми качествами, присущими призракам. Всякий мелкий лавочник сегодня сверхчеловек, ибо сегодня он положил себе достичь Бога. Все простирают руки, чтобы коснуться краешка Его одеяния. Все как один, без различий: богатые уравнялись в бедности с нищими, потому что все голодают. Все грешники, и все молятся. У них слабеют колени, их шатает, они бегают, шепчут, причиняют себе боль, поют, восклицают, плачут, по старым бородам текут слезы — и чувство голода отступает перед мукой души, перед бессмертием этих мелодий, внимаемых отрешенным слухом.