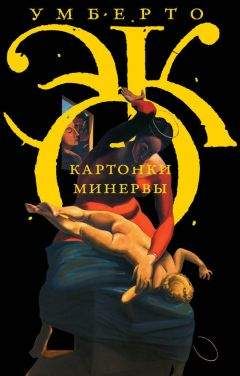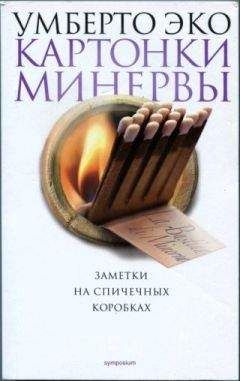Ознакомительная версия.
Как происходит в гражданском обществе? Так, как это сделал Золя для Дрейфуса, устраивая процесс над процессом, что и является правом / обязанностью не склонного к истерикам общественного мнения. И это как раз то, что сделал Карло Гинзбург после приговора 1990 года. Поэтому гораздо важнее читать и перечитывать его книгу, публиковать из нее обширные выдержки в газетах и журналах, а не подписывать бесконечные воззвания. Причем Гинзбург откровенно начинает с того, что открывает карты (более того, можно сказать – открывает, как сомнительны его карты), заявляя, что начальным толчком к написанию этой книги было то, что Софри – его личный друг. После этого вступления он больше не говорит в эмоциональном ключе: он анализирует свидетельские показания, материалы допросов, улики, аргументы и контраргументы, и у того, кто прочитает эту книгу, сложится убеждение, что этот процесс, изначально основанный на уликах, вызывает большую озабоченность, потому что улики оценивались по весьма спорному приципу: всякое свидетельство или улика защиты отвергались, если противоречили свидетельству обвинения.
Книга Гинзбурга делает кое-что большее: сравнивает методы интерпретации, использованные судейской коллегией, с теми, которыми и следует пользоваться серьезному историку, оценивающему, можно ли положиться на имеющиеся свидетельства. Гинзбург достаточно благоразумен и понимает, что эти два подхода можно сравнивать, и ясно дает это почувствовать. Но в конце концов он предъявляет разительное отличие между методами серьезного исторического исследования и теми, которые были использованы во время процесса и при вынесении приговора. Вот почему я начал с возможного логического анализа доводов ревизионистов, отрицающих Холокост. Есть кое-что общее между теми, кто тщится доказать, что преступления не было, и теми, кто тщится доказать, что преступление было: это слабость аргументов. В определенных случаях важнее, чем соблюсти права обвиняемых или права жертв, обеспечить права – не скажу «разума», но здравого смысла. Мне кажется, что аргументы, использованные в процессе Софри, противоречат именно ему.
Урок, который следует из книги Гинзбурга, может быть неприятен. Но это свидетельствует о том, что единственное, что имеет смысл делать, – это двигаться в том же направлении. Мне стало известно, что один издатель намерен целиком опубликовать приговор. Не знаю, получится ли целиком, потому что он превышает по объему том солидных размеров. Но именно таким образом и надо действовать, и это – единственное милосердие, на которое могут рассчитывать осужденные, пускай даже это займет больше времени.
Поясню. Я не просто убежден «по моральным соображениям», что процесс Софри был проведен некорректно. Я хочу сформулировать гипотезу, базирующуюся на тех данных, которые мне известны. Но я не могу делать вид, что обращаюсь с этими известными мне сведениями без некой предвзятости. В самом деле, хотя у меня нет настоящих предубеждений, все равно я не свободен от подсознательной предвзятости. Это не оксюморон, а то, что помогает анализировать лишь мысленный набросок, чтобы понять, какую гипотезу следует выбрать для дальнейших рассуждений.
Вот каковы первоочередные «нарративные» мотивы моей предвзятости. Термин «нарратив» здесь не следует понимать в узком смысле. Я из тех, кто склонен считать, что законы нарратива являются основополагающими в каждом акте понимания вещей, не только в историческом смысле, но и на уровне восприятия: чтобы понять какой-либо феномен, мы стараемся разложить его на «когерентную», связную последовательность событий. Если посреди луга этой весной появился цветок, которого я раньше никогда здесь не видел, более когерентно и «экономно» подумать, что какой-то естественный посредник перенес на это место семечко прошлой осенью, а не представлять мифического садовника, высадившего этот цветок под покровом ночи. Первая история более правдоподобна и раньше приходит в голову.
Вернемся к истории Софри и группы «Борьба продолжается». Всякий, кто читал в свое время газету с таким названием, мог заметить, независимо от того, разделял он или не разделял ее идеи, характерные особенности и газеты, и движения. В то время как другие печатные органы, возникшие после шестьдесят восьмого года, демонстрировали склонность к доктринерству и, в наиболее запущенных случаях, к безудержной ругани, «Борьба продолжается» выработала новый журналистский подход – в том, что касается выбора лексики, синтаксиса, концепции заголовков[46]. Совсем не случайно бóльшая часть бывших лидеров движения стали влиятельными фигурами в журналистике (и это, среди прочего, объясняет, почему Софри так бурно поддержали массмедиа). Газета «Борьба продолжается» изобрела журналистскую формулу, которую мы, не обинуясь, можем определить как «умение убеждать». Ее язык был посредником, и это важнейшая характеристика для массмедиа: читателя надо убедить, поразить, обольстить, победить при помощи риторики и не навязать ему свои выводы, а дать возможность сделать свои. Это «умение убеждать», внимание к своей audience[47] отличало издание «Борьба продолжается» от других газет левого движения.
Каковы были намерения группы «Борьба продолжается» в отношении Калабрези? Разоблачить его, бросить на скамью подсудимых за убийство Пинелли[48] или, по крайней мере, убедить как можно больше народу в его виновности и вместе с ним разоблачить власть, которую он для левых символизировал? Можно обвинять группу «Борьба продолжается» в том, что они выбрали ошибочный символ, а также в жестокости, безжалостности, в том, что они сами назначили виноватого и довели до того, что многие возненавидели его «печенками»; можно обвинять их в чем угодно, но следует помнить, что их целью было именно это.
Более того, Калабрези был необходим группе живым и как можно более виноватым, Калабрези сделался прямо-таки залогом ее собственного выживания.
И поскольку редакторы газеты и сам лидер движения обладали острым медийным чутьем, они не могли не сознавать, что убитый Калабрези превратится в полную противоположность тому, чего они от него хотели. Отныне не виноватый, но Жертва, не Зло, но Герой. По крайней мере, это подсказывал здравый смысл и журналистское чутье. Конечно, невозможно исключать помешательство, но, насколько мне известно, до сего дня на процессе Софри о психических расстройствах и речи не шло. Я хочу сказать, что, если нынче какой-то загадочный убийца начнет швырять бомбы в кинотеатры, мы можем подозревать всех, вплоть до самых неожиданных людей, но из последних будут кинопродюсеры и владельцы кинотеатров. Они не заинтересованы ни в чем подобном, напротив – они первые пострадают от этого.
Я понимаю, что рассуждение: «Калабрези был нужен им живым, а не мертвым, чтобы убить его символически, поскольку им больше подходило оплакивать его» – может показаться очень циничным и, пожалуй, таковым и является, – по крайней мере в той степени, в которой циничным является всякое реалистическое рассуждение. Но, пока не будет доказано обратное, мы принуждены строить гипотезы, исходя из того, что Софри и его товарищи действовали реалистически. Это не исключает, что они недооценили тот факт, будто кто-то из их читателей мог неверно истолковать их призывы и импульсивно поддаться мести. Но это другая история, и по этому поводу сам Софри высказался весьма самокритично.
Мне кажется разумным, применительно к этому преступлению (как и к любому другому), держаться принципа cui prodest[49]. Процесс и приговор, напротив, творят историю, в которой действующие лица стряпают сюжет коллективного самоубийства. Эта история не кажется когерентной, связной.
Конечно, в жизни происходят и бессвязные истории. Но подозрение в бессвязности представляется мне хорошим поводом пересмотреть историю. Потому что в таком виде, как ее рассказывают теперь, она кажется слишком расхлябанной.
1997
В декабре 1993 года в Сорбонне под эгидой Всемирной академии культуры (Academie Universelle des Cultures)[50] состоялся конгресс, посвященный понятию «международная интервенция». Там были не только юристы, политологи, военные и политики, но также философы и историки, такие как Поль Рикёр или Жак Ле Гофф, «врачи без границ», всё равно, что как Бернар Кушнер, представители некогда преследуемых меньшинств – Эли Визель, Ариель Дорфман, Тони Моррисон, а также жертвы репрессий при разных диктатурах, например, Лешек Колаковский, Бронислав Геремек или Хорхе Семпрун, – словом, множество людей, которым не нравится война, никогда не нравилась и которые не хотели бы больше ее видеть.
Слово «интервенция», то есть «вмешательство», внушало страх из-за того, что уж слишком напоминало «вмешательство в чужие дела» (ведь даже маленький Сагунт оказался объектом вмешательства, и это дало повод римлянам выступить против Карфагена[51]), и все предпочитали говорить о помощи или о международных действиях. Лицемерие чистой воды? Нет, просто римляне, которые вмешались в войну на стороне Сагунта, – это римляне, и всё тут, в то время как на конгрессе речь шла о международном сообществе, то есть о группе стран, контролирующих ситуацию в любой точке земного шара, где проявляется нетерпимость и где следует вмешаться, желая положить конец тому, что общее мнение считает преступлением.
Ознакомительная версия.