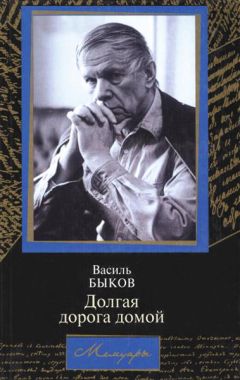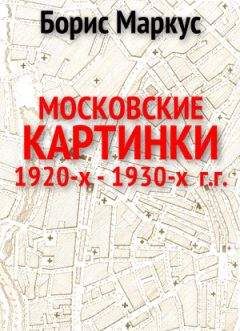Володя Короткевич не имел к должностям никакого отношения. Он не был ни коммунистом (даже рядовым), ни редактором. И ему не оставалось ничего другого, как писать «несовременные» исторические романы да пить водку. Печатали его после бесконечных, временами глупых и невежественных, придирок (видимо, боясь белорусского «страшилища» — национализма), но запретить ему пить не могли.
И, живя в Доме творчества, Володя то ходил на море, то в поселок за чачей. Я же несколько недель сидел в лоджии и писал на шатучем дюралевом столике. Короткевич говорил, что ненавидит такие столики, где б они ни были, — хоть в комнате, хоть в кофейне, что они — дьявольское изобретение. На таком столике, утверждал он, ничего путного не напишешь. Ему для работы необходимы были солидный дубовый стол, пачка хорошей бумаги и свежая, тщательно отглаженная сорочка. Тогда у него появлялось вдохновение, которое всегда приносило обильные плоды.
Как-то он снова пропал на некоторое время, а когда вернулся, мы его просто не узнали. У него был какой-то прямо-таки нездешний вид — изможденное лицо, мутный взгляд. Едва стало смеркаться, пожаловался, что внизу, в кустах, сидит змей и внимательно следит за ним: «Идем, покажу…» Я зашел в угловой номер, в котором жили они с Валей, и Володя опасливо ткнул пальцем вниз: «Вот, вот… смотри… Выглядывает! Нет, спрятался. Ну, подожди, я тебя!» «Володя, брось! — сказал я с болью. — Ложись лучше спать!» «Нет, спать я не буду, — отвечал он. — Я его подстерегу… всё равно…»[351]
Валя плакала. Мне было очень не по себе…
А в конце нашего пребывания в Доме творчества мы поехали на экскурсию в Сухуми. Там Володя прежде всего потянул всех в обезьянник. Был оживлен, весел, полон детского восхищения проворными и ловкими существами, которые сидели, лазали, прыгали с ветки на ветку, нисколько не обращая внимания на рассматривавших их посетителей.
Ему очень понравилась одна небольшая симпатичная обезьянка, которая, встретившись с ним взглядом, смело прыгнула навстречу и протянула Володе ладошку с тоненькими черными пальчиками. «Смотрите, какое чудо! — с восторгом закричал он. — Она же лучше людей! Сколько в ней доброты и доверия!» Он положил в темную ладошку мандарин, и обезьянка с радостным визгом взлетела высоко на дерево.
В кофейне, которая попалась на проспекте под пальмами, было только кислое прохладное вино. Володя брезгливо морщился, но пил его полный ярких и радостных впечатлений.
Короткевич с женой уехали из Пицунды раньше нас. Мы проводили их к автобусу. Но выпить на прощанье было нечего.
Какова же была наша радость, когда вскоре получили из Минска телеграфный перевод на довольно крупную сумму и небольшую посылку! Помню, мы шли с почты и всю дорогу старались угадать, что это прислал нам Володя? В посылке оказалась бутылка молдавского коньяка, который в Беларуси еще можно было «достать». Ну — Божеская душа, милый Володя!
Счастливые деньки промелькнули быстро, и вскоре близкую нам семью постигла большая беда. По настоянию врачей Валя попала в Боровляны. Я возил к ней Володю на свидания. Сам оставался в машине, а он шел в корпус. Возвращался оттуда удрученный и молчаливый, тайком вытирал глаза. Он любил жену…
Когда она умерла, помнится, не плакал. Лишь после похорон советовался со мною, как ему жить дальше…
Незадолго до своей смерти Володя стал как-то особенно внимательно относиться к тем, кого уважал,[352] с кем дружил. Часто звонил мне, а если меня не было дома, подолгу разговаривал с Ириной. Здоровье его ухудшалось, но он как-то не слишком серьезно относился к этому. Ему всё труднее было писать, и он шел к друзьям. Словно предчувствуя неизбежное, старался побольше бывать на природе, с которой в скором времени Володе предстояло слиться навсегда. Поездка на любимую Припять стала для него последней…
Смерть Володи оплакивала вся Беларусь, которая будет долго помнить его. Такие, как Короткевич, часто не рождаются.
Дописывал повесть уже в Минске, на Танковой, — всю осень и начало зимы. Не скажу, чтоб она давалась мне очень трудно — материал знакомый, частично пережитый мной самим. В особенности относившийся к 30-м годам. Цепкая детская память сохранила многие драмы и черты быта того, поистине чрезвычайного времени. Что касается военных лет, то и в сценах, связанных с ними, мог многое себе представить, хотя и не жил на оккупированной территории. Этого, слава Богу, испытать мне не довелось. Я избежал не только опасности, но не получил определенной метки в своей биографии. Людям, имевшим ее, долго не давали забыть прошлое.
Повесть свою писал последовательно, кроме вставного сюжетного куска, который оказался словно бы ядром ореха, — его я сделал позднее. Ядро это было очень важно для развития темы, ибо именно оно как раз и несло в себе главный идейный знак — знак национальной беды. Мало было коллективизации, так еще и оккупация. Это и предопределило жизнь и судьбу реликтовых хуторян Степаниды и Петрока. Степанида инстинктивно чувствовала, откуда всё время подступает к ним беда, — то был мост. Она очень хотела его уничтожить, чтобы окончательно обособиться, отъединиться от мира и его напастей. Это для хуторян-белорусов было важнее всего. Однако осуществить свое желание никогда и никому не удавалось, несмотря на многочисленные попытки. Бомба Степаниды предназначалась для другого…[353]
Аккуратно перепечатанный экземпляр повести я отнес в «Полымя», очередным редактором которого стал в ту пору Кастусь Киреенко, человек с ограниченными способностями, но с определенными амбициями. У меня с ним не было никаких отношений, и иметь их не очень хотелось. Как, впрочем, и со всей редакцией этого журнала. Отнес я рукопись рано утром, когда в редакции никого, кроме корректоров, не было, и попросил передать главному. Через некоторое время он позвонил сам, сказал, что рукопись получил и ее будет читать Пташников. Тот при случайной встрече с похвалой отозвался о том, как напечатан текст — чисто, без помарок, не то, что у некоторых других. На этом редакционные разговоры и кончились. Я был благодарен им обоим, ибо счел это наилучшим вариантом отношений между двумя антиподами — автором и издателем. В скором времени повесть была напечатана.
С публикацией всех прежних повестей (до «Знака беды» включительно) у меня возникало немало серьезных проблем. О политической стерильности этих произведений заботились не только редакторат, не только цензура, но и КГБ. Даже во времена Горбачева. Бывший пресс-атташе генсека Андрей Грачев в своей книге «М. С. Горбачев» пишет: «Отвечая на заседании Политбюро В. Чебрикову (тогдашний руководитель КГБ. — В. Б.), который возражал против публикации повести Василя Быкова «Знак беды», бдительно разглядев в ней «подкоп под коллективизацию», Горбачев шумел: «Да, перекосы будут. Всё поплывет в потоке, который возникнет. Будут и пена, и сор, но всё это знак весны, обновления, спутники демократизации. А ее маховик надо раскручивать, не следует бояться…»
Таким образом, моя повесть была для руководителя КГБ «знаком беды», а для Горбачева — всё же «знаком весны». Кажется, ошибались оба.
Свой перевод «Знака беды» я отдал в московский журнал «Дружба народов». Вскоре меня срочно вызвали в редакцию: Редактор Сергей Баруздин высказал общие претензии, но детализировать их не стал: очень спешил на какое-то заседание (видимо, в ЦК). Сказал, что всё остальное выскажет его заместитель Леонид Теракопян.[354] Тот сделал это не слишком категорически, но подробно и доказательно, ну, конечно, имели место перегибы, нарушения, но коллективизация была необходима, ибо раздробленное частновладельческое сельское хозяйство не способно было… и т. д. Кое-что пришлось вычеркнуть, опустить, заменить банальностями. Но я уже знал: если на первом этапе редактирования в чем-нибудь уступишь (вот тут — всего три-четыре места), то на следующем этапе мест этих будет уже пять-восемь, а затем и десять-пятнадцать. Особенно в Главлите. Так получилось и на этот раз. Чтобы окончательно всё подчистить, из редакции в Минск был прислан опытный литературный правщик, с которым мы чистили повесть в четыре руки. Считалось, что правился только стиль, хотя работа наша имела к нему мало отношения — дело было в политике. Притом в политике вчерашнего дня, минувших десятилетий, которая всё еще многое определяла в нашей жизни. «А что если «Знак беды» назвать романом?» — пришла мне в голову неожиданная мысль. На это мой правщик ответил просто: «Тогда с ним придется возиться вдвое больше, ибо другой жанр». И я подумал: пусть уж остается в жанре повести.
А в издательстве «Молодая гвардия», которое тоже собиралось издать «Знак» отдельной книгой, ситуация сложилась еще хуже. Уже изрядно подчищенную для предыдущих публикаций повесть внезапно вернул Главлит. Судя по всему, произошло это вследствие того, что Главлит стал курировать мой старый «друг» Владимир Севрук, с каждым годом приобретавший всё больший вес в аппарате ЦК. Очевидно, с подачи Севрука повесть моя попала на стол ко «второму лицу в государстве», тогдашнему секретарю ЦК Лигачеву. Как известно, новая метла всегда метет чисто. В данном случае вместе с сельским хозяйством «подмела» она и литературу. В издательстве разразился скандал, и заведующую отделом Зою Яхонтову отрядили в Минск — уламывать автора. Хорошая эта женщина приехала ко мне на Танковую и рассказала о полученном ею задании. В общем требовалось сделать, на первый взгляд, немного: «Снять вот здесь, здесь и здесь. А также, если можно, от сих до сих…» и т. д.[355] Я искренне хотел помочь этой женщине (которая скоро должна была уходить на пенсию). Ведь известно, каждый редактор — тот же сапер: однажды ошибся — и пиши пропало. Я черкал, выбрасывал, но логика произведения протестовала, приходилось что-то восстанавливать, мы нервничали и спорили. В конце концов вытравили слишком уж конфликтную сцену раскулачивания, еще кое-что. Цензоры, конечно, превосходно понимали, где был «знак беды», и очень старались, чтоб этого не понял читатель. Чтобы всё спрятать в строго засекреченных фондах, начисто вычеркнув из литературы. Но не в их власти было вычеркнуть это из жизни, ибо, как говорили древние греки, — даже боги не в силах переиначить прошлое. Оно выше Настоящего, так как уже неподвластно никому.