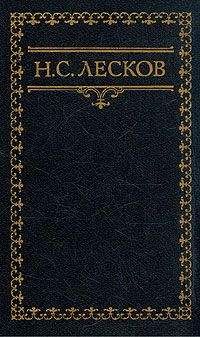Смиренный ересиарх Николай.
28 марта 1889 г., Петербург.
Любезный друг Владимир Григорьевич!
Так как Вы приостановили выпуск «Азы» и «Данилы», а в это время лютость цензуры еще усилилась, то я почти наверное предполагаю, что счастливая случайность их разрешения пропадет втуне. Вам не позволят их вовсе. Это и будет реванш цензуры и вполне правильное возмездие Вам за невнимание к обстоятельствам и педантство Словом, я считаю это дело погубленным вторичным вопросом, как погублен «Зенон»; но если бы милосердие врагов добра было так велико, что и еще раз Вы получите разрешение, то, пожалуйста, сообщите мне: что за картинки делаются к «Азе» и кто (кто именно) их делает? Я бы очень просил позволить мне видеть эти рисунки. Дело в том, что тут есть художница Ахочинская, у которой «Аза» нарисована с натуры, и превосходно. Если заказ Ваш в Москве еще не исполнен, то я просил бы Вас принять рисунки Ахочинской, сделанные по моему совету, а я теперь в египетских дамах «насобачившись». В Москве же нарисуют не «Азу», а «Лупоглазу», – что будет совсем неприятно.
Дружески жму Вашу руку.
Н. Лесков.
«Зенон» сегодня посылается.
6 апреля 1889 г., Петербург.
Достоуважаемый Карл Андреевич! Пожалуйста, простите меня за премногие перед Вами неисправности. Мне очень недосужно, и я очень устал. Единственный экземпляр корректуры запрещенного «Зенона» повез Вам в Москву сын редактора Гатцука, Владимир Алексеевич Гатцук. Он теперь уже в Москве у своего отца, у Никитских ворот, дом Гатцука. – Сегодня я пишу ему, чтобы он к Вам съездил, но, может быть, вернее и скорее будет, если Вы к нему съездите и возьмете корректуры. Владимир Гатцук (очень милый молодой человек) может Вам рассказать и обо мне и о том, как запрещали «Зенона»; а потом я, поосвободясь, напишу Вам письмо о моем «уединенном положении». Дело просто: я не нигилист и не аутократ, не абсолютист, и «не ищу славы моея, но славы пославшего мя отца». Я Вам напишу, а Вы сами делайте как знаете.
Дай бог Вам устраиваться и жить в мире с собою.
Ваш Н. Лесков.
Ночьс 8 на 9 апреля 1889 г.
Петербург.
Любезнейший друг Владимир Григорьевич!
Знатнее всего «понял с полуслова», что я Вас издали порядком порассердил и что Вы тоже меня пощипываете. Все это очень хорошо. Однообразие сильно утомляет душу, а когда «милые бранятся, то они тешатся». Вы же мне милы, и я думаю, что и я Вам не постыл. Затем каждый из нас остается с своею самостию и своими особинами. Я раздражителен – это правда, и это очень большой недостаток. Извинения мне нет, а только объяснение есть: я терпеть не могу никакого доктринерства и профессорского тона где бы то ни было, и потом я не люблю откладывать то, что можно сейчас сделать (хорошего). У Вас же все делается с ужасающей медленностью. Это мне беда видеть!.. Этак (по-моему) дело делать не следует, а, по Вашему, так только и следует… Очевидно, не столкуемся. «Завтра не наше: наше только сегодня». Надо им дорожить и делать все, что можно, «доколе день есть». Объяснять же и отражать можно все. Известно ведь, что «доказать можно все». В издательстве заметен упадок, и значение фирмы подорвано. Надо спросить per cui bono.[32] Того и гляжу, что оно совсем задерет ножки… И можно будет доказать, что и это тоже очень хорошо. «Вышло-де то, что могло выйти». Я с этим ни за что не хочу мириться. – За обещание прислать мне фотографию Анны Константиновны – очень Вам благодарен. Я буду ждать обещанного. Почему, однако, фотография «грех»?.. «Блюдите, брате, како опасно ходите!» Этак, пожалуй, скоро и почта станет, пожалуй, «спорым грехом». Черты одушевленного и выразительного лица могут, однако, вдохновлять и бодрить мысль… Почему же это грех? После этого, пожалуй, и чернослив после обеда грех есть… Эй, «блюдите, брате, како опасно ходите!» Этим аллюром люди доходили до вреда своему делу с великою борзостию. Впрочем – моя речь не пословица, а говорю я как думаю, может быть и глупо, но «блюдите»… Летом еще не знаю, как распоряжусь. Если будут средства, хочу видеть «народы мнози», – для этого надо съездить в Париж. К немцам своим не поеду, потому что их теперь «русифицируют», а я терпеть не могу быть при таких операциях. Затем, может быть, решусь сидеть в городе и, может быть, проедусь к Вам и к Павлу Ивановичу не-Гайдукову. Но все это только мечты, а ясного – ничего. Заключаю из Вашего письма, что здоровье Анны Константиновны нехорошо… Это никогда меня не приводит к философии, а всегда к ощущению скорби… Я при этом и останусь. Он ведь о Лазаре «плакал»… Это верно. «Азу» и «Данилу», пожалуйста, пришлите. Картинки непременно были нужны. Как это Вы не знаете мужика! Он привык брать книжечку со шлепком, – так ему и давай шлепок, а то он заговорит: «Это другой нацеи». Все и надо спорить. – Теперь опять – что же это за печатание в числе 7 тыс. экз.?.. Ведь их вперед не дозволят, как «Федора и жидовина»… Зачем же не 15 тыс., не 20 тыс., а 7 тыс.?.. Что это, бедность, что ли, и чья бедность, и per cui bono? Ах, ах, ах и трах-тарарах, – как об этом даже писать стыдно! Это «как мокрое горит», – и ничего более. Не издаем, а просто «нищего за хвост тянем». Ужасно это видеть, кто привык делать живо и энергично. – Буддийский взгляд на «исполнение жизни» и переход «форм бытия» мне не чужд и не противен, но тогда надо бы и держаться всего земного проспекта Сакья-Муни и быть «бодисатвой». А меж тем дело путается. Фирме надо торговать, – надо сделать у Суворина объявление; Суворин не буддист, а экономист и деньгу любит solo, solo. Без объявлений нельзя, а объявление стоит своей цены. Ступай, Н. С., покучься, чтобы сбавили. Н. С. идет и кучится, а там смеются: «Что это, говорят, на бедность уж просят!». «Коли им так нудно, так за это и другие взялись бы!»… И, я думаю, возьмутся… «Мокрое гореть» не будет, – сухого хворосту подкинуть, и пойдет дело шибко, а подбор будет иной… Так будет напрасно спущен жар первой печи, и дело будет направлено не в ту сторону… И это мне противно, а между тем я знаю, что наговорить объяснений и доказательств можно сколько угодно, но дух мой понижает дело, как оно есть, и нет никаких доводов, чтобы он перестал скорбеть о деле, таящем на виду нашем, как снег на угреве. И будет грязь, слякоть, – вот и все, – и «посмеются и покивают главами своими»… А дозревание и обновление – это своим чередом. – Сегодня читал корректуру статьи Л. Н. «Об искусстве» (кн<ижка> «Русского богатства», Оболенского). Это всего строк 500–600, но это превыше всех похвал за ясность, точность и вразумительность. «Зенона», думаю, Вы уже прочли. Ругин уезжает, а потому, по прочтении корректуры, возвратите прямо мне. Повесть эта, как злое дитя, наделала мне много досад, и главное – расстроила мои дела, которые всегда надо стараться держать в порядке. За это она мне противна стала.
Н. Л-в.
30 апреля 1889 г., Петербург.
Лев Николаевич.
Вчера я послал Вам под бандеролькой мой маленький новый рассказ «Фигура». Он дозволен к печати и долж<ен> явиться в журнале «Труд» (приложение к «Всемирной иллюстрации»). Это тот самый рассказ о родоначальнике украинской штунды, о котором я писал Вам некогда, испрашивая у Вас совета, чтобы сделать из этого мал<енький> роман. Не получив ответа, я скомкал все в форме рассказа, сделанного очень наскоро. Тут очень мало вымысла, а почти все быль, но досадно, что я из были-то что-то важное позабыл и не могу вспомнить. Кроме того, я Сакена никогда не видал и никаких сведений о его привычках не имею. Оттого, вероятно, облик его вышел бесхарактерен и бледен. Не могу ли я попросить Вас посолить этот ломоть Вашею рукою и из Вашей солонки? Не укажете ли в корректуре: где и что уместно припустить для вкуса и ясности о Сакене, которого Вы, я думаю, знали и помните. Пожалуйста, не откажите в этом, если можно, и корректуру с Вашими отметками мне возвратите; а я все Вами указанное воспроизведу и внесу в текст в отдельном издании. Буду ждать от Вас хоть одной строчки ответа.
Гатцук передал мне свой разговор с Вами обо мне. Спасибо Вам, что знаете меня и говорите обо мне. В суждении своем Вы вполне правы: не столь много требуется «на нужу, сколько наружу». Душевное состояние мое, однако, улучшилось, и много улучшилось после того, как Вы мне написали, что «все хорошо и полно жаловаться». Я не жалуюсь более, и в самом деле стало легче.
Помогите мне выправить и дополнить «Фигуру» в отношении неизвестного мне Сакена.
Если Пав<ел> Ив<анович> He-Гайдуков у Вас, – то прошу сказать ему мою благодарность за присланные сегодня выписки из М. Арнольда.
Любящий Вас
Николай Лесков.
18 мая 1889 г., Петербург.
Благодарю Вас, Лев Николаевич, за полученное мною письмо Ваше о «Фигуре». Все, что пишете, – верно: рассказ скомкан и «холоден», но я все видел перед собою опротивевшее пугало цензуры и боялся разводить теплоту. Оттого, думается, и вышло холодно, но зато рассказ прошел в подцензурном издании. «Тени на лицо Фигуры» нужны, и я их попробую навести при внесении рассказа в V том собр<ания> моих сочинении, а под цензурою пусть уже хоть так бредет. Кое-что доброе рассказ все-таки внушает и в этом виде. Благодарю Вас и за то, что черкнули о Сакене: я о нем ничего не знал, кроме того, что написал. Оттиска «Фигуры» во второй раз не буду Вам посылать, чтобы не беспокоить Вас. С меня довольно того, что Вы мне сказали. Любовь и признательность к Вам питаю с великою радостию духа, который получил через Вас много света, и силы, и утешения.