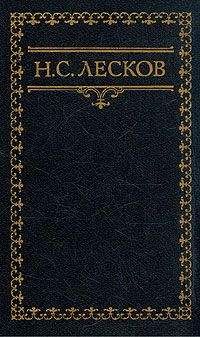Ваш Н. Лесков.
Ночьна 8 декабря 1889 г., Петербург.
Я претерпеваю несносное давление с романом. Его просит и Цертелев. Мучение! – Пошлю все-таки Вам, но давайте ответ скоро – в три дня. Мне не миновать его отдать теперь. По-видимому, я справлюсь, хотя с трудом. Рискую один я, а не редакция. Он читаться будет, хотя меня, может быть, не будет удовлетворять. Пошлю первую ч<асть> 14 декабря. Ее можно разделить надвое – на 14 глав, но лучше печатать целую. – Ц. предлагает мне 300 руб. за лист. «Родина» тоже. Вы что скажете? Пожалуйста, пишите скорее и откровенно. Меня все это мучает. Я не могу нахваливать романа и не могу просить Вас мне верить, но поступаю по-товарищески. До 14-го есть время переписаться.
Ваш Н. Л.
9 декабря 1889 г., Петербург.
Очень рад, Алексей Сергеевич, что мы смотрим на вопрос о VI т<оме> одинаково. Как бы дело ни пошло, – мы, во всяком случае, от выжидания ничего не потеряем. К Вам я зайду на сих днях. Жалею, что Вы вечерами сердиты и надо говорить с Вами утром, когда нет возможности говорить. И зачем это Вы выбрали по вечерам сердиться? Вечер – это самое благобеседное время, а Вы его дарите гневу… Не во гнев милости Вашей молвить, – в наши годы надо «сдабриваться»: в этом возрасте «ласка души красит лицо человека». Я всегда сожалею, когда слышу о вашей сердитости. Что это такое, чтоб люди нас боялись, как беды какой? Как это себе устроить и для чего? А ведь Вы не можете же не чувствовать, что люди Вас боятся и оберегаются… «Конкуренции» в совпадении сюжета Вашего рассказа с «Аскал<онским> злодеем» не боюсь, во-первых, потому, что мой рассказ вышел и я деньги получил, во-вторых, потому, что я нимало не ревнив к своим работам, в-третьих, потому, что наши дарования очень разнородны и мы можем писать сряду и не повторим друг друга, а еще, наконец, – мне Ваши дарования нравятся более, чем мои, и я люблю читать Ваши писания. Хорошо было недавно о женщинах, но еще лучше Буренин о Пыпине. Вот как надо писать, чтобы учить публику верному пониманию, но зачем это так редко и зачем в конце про жидов посажено ни к селу ни к городу?.. Зачем Вы не приняли Черткова и отчего не хотите напечатать перевод Л. Н. Т. «Суратская кофейня»? Ведь это и любопытно, и умно, и цензурно.
Пожалуйста, не рассердитесь, что я говорю с Вами о сердитости. Мне кажется, с нею очень беспокойно. С С. Н. Шубинским мы сердечно помирились, и я этому рад, потому что я люблю в нем многое хорошее, чего нет в очень многих. – В 1890 году мне и Вам одновременно истекает 30 лет писательства… Длинный срок! Как бы Вас почествовать? Я должен умереть в 1889 году или в 1892. Есть такое показание. В 1889 было близко у этого, но, верно, отсрочено до 1892.
«Аск<алонский> злодей» окончен игрушечным образом. Я это знаю и знаю то, как бы надо было это разрешить в связи с житейской правдой: но Ключевский очень одобряет мой домысел и находит, что это «сделано в духе того времени». Это очень трудная и копотливая работа: я рад, что Вы ее теперь сами испытываете. Возьмите-ка вот за нее по пятиалтыннику за строчку, когда тут что ни слово, то чтение да розыски. Тут сколько с вас ни возьми, – все «себе дороже стоит». – Пишешь это, будто как Паганини иногда играл: «для кого-то одного в партере». Я очень жду, чту Вы напишете: это не шутка, – это трудно. А я в романе (который, собственно, скорее ряд картин, а не роман) сбился на тему «Татьяны Репиной».
Л. Н. отдал «Крейцерову сонату» не в «Русское богатство» и не в «Неделю», а в сборник, предпринимаемый в пользу бедствующего семейства покойного Сергея Андреевича Юрьева. Перепечатывать имеют право все… Ну, а если до истечения 10 лет право собственности перейдет к наследникам, и они «взочнут иск»?..
Н. Лесков.
Ночь на 10 декабря 1889 г., Петербург.
Простите, что не сейчас Вам ответил. Письмо принесли при людях, и весь день всё люди. Черткова зовут Владимир Григорьевич (СПб., Выборгская стор., Ломанов переулок, дом Пашкова). – Человек он искренний, тихий, но очень сильного и твердого характера, – немножко фанатик. Личность очень достойная.
О «Кофейне» я, верно, напутал. Ч – ков говорил мне, что он «завозил» Вам этот перевод (из Б. Сент-Пьера), с тем чтобы Вы напечатали его в фельетоне, и спрашивал: как я думаю, напечатаете Вы или нет, «хоть без имени Толстого»? Я понял так, что перевод им оставлен у Вас, а теперь вижу, что, вероятно, Ч – ков держит его у себя до личного с Вами свидания. Эта вещица – рассуждение о понимании божественной, творческой сущности. Оно очень любопытно и живо и, по-моему, – совершенно цензурно. – Покоя в Вашем положении быть не может, – это правда, но пишете Вы все-таки очень хорошо – сильно, образно и горячо. Рассказ лучше кончить «грехом». Это статочнее, но я ведь держался жанра и потому написал ближе к той развязке, какую дал Пролог. Писать эти истории очень трудно, но занимательно. Очень рад был бы, если бы Вы позвали меня прослушать рассказ, когда он будет написан. Я иногда бываю не бесполезным слушателем.
Преданный Вам
Н. Лесков.
P. S. Слыхали ли Вы, будто в Ак<адемии> худож<еств> открыто гнездо «юферастии»?.. Какова мерзость!.. А по компании судя, – дело подозрительное.
Ночьна 15 декабря 1889 г., Петербург.
Простите меня, отцы и братия: еще обману Вас на одни сутки. Сижу за рукописью не покладая рук, а работа вырастает, и ее оборвать невозможно. Готовясь печатать недосмотренное в рукописи, надо все стараться установить на место в первой части, чтобы не искать нитей после. У меня останутся недоправленными две последние главы, но самые для меня мучительные. О нездоровии своем я уже не говорю. Работа и забота о романе меня поглощает и заставляет забыть о себе. Роман начинает меня удовлетворять. Твердо уповаю, что 16-го, в субботу, я Вам первую часть вышлю. Рукопись измарана ужасно, но четко и толково. Читать, может быть, трудно, но в наборе затруднений не должно быть. Объем всего романа представляется мне около 10–12 листов. Название его «Чертовы куклы». Частей будет три или четыре, – наверно еще не распределил. В первой части должно быть листа 3 1/2 или 4. Она самая большая. Разделять его нельзя без ущерба для интереса повествования. Живые лица и имена их маскированы. Положения указаны только соответственные действительности. Место действия вовсе не названо. Приемы вроде комедии Аристофана «На облаках» или еще ближе – вроде нашего «Пансальвина» или Хемницерова «Кровавого прута», но колорит и типы верные действительности (история Брюллова). Того, кто называется «герцогом», я иногда называю «высочеством», иногда – «светлостью». Теперь мне трудно все это выследить и привести к однообразию. Прошу Вас ставить везде «светлость». Перерыв в феврале необходим. Иначе я не успею в сроки. К июню роман может окончиться. У Вас еще есть роман Виницкой, в котором, говорят, много достоинств, – стало быть, Вам обходиться есть с чем. Перерыв дела не испортит, если роман интересен. Я делаю всё, что может делать человек Вам искренне и доброжелательно преданный.
Н. Лесков.
Корректура будет мне необходима. Задержки за нею, по обыкновению, не будет. Так как рукопись должна прийти в Москву в воскресенье, то я ее адресую Вам на квартиру, в Шереметевский переулок. – Всем кланяюсь. Виктора Александровича благодарю за присланную книжку.
25 декабря 1889 г., Петербург.
Достоуважаемый Алексей Сергеевич!
Я глубоко тронут, потрясен и взволнован припискою, которую Вы сделали под Вашим сегодняшним рассказом. Волнение мешает мне говорить и о самом рассказе и о том, что я чувствую к Вам в эти минуты. Рассказ прелестен и по отношению к «Злодею» стоит как пушка к мортире: «Пушка стреляет сама по себе, а мортира – сама по себе». Я Вам говорил, что Ваши дарования богаче моих, и особенно у Вас есть преизбыток гибкости, которая дает очень милый тон Вашим рассказам. В ней, то есть в этой гибкости, которою с Вами схожа Яковлева (Ланская), заключалась прелесть и привлекательность Ваших фельетонов былого времени. У меня ее нет или очень мало. Я, может быть, слишком торопился «определиться», а Вы легче меня сердцем и характером и сохраняете до сих пор некоторую неопределенность, а через нее и гибкость и живость. Я люблю Ваш талант и очень рад, что говорил об этом прежде этого случая, когда я чувствую себя растроганным Вашим заступничеством и слова мои могли бы показаться льстивыми. Но я уверен, что Вы знаете, что я не льстец и не искатель. Я благодарю Вас за утешение в ином смысле – не в литературном. Литературное значит меньше, чем жизненное… Я скорбел: как теперь свидеться и заговорить! – а лишить себя этой возможности после 30 лет мне казалось ужасно!.. И именно как раз, как нарочно это в 30-й год… Это было мучительно. Ночь под р<ождество> Христово я читал до двух час<ов> письма Л. Н – ча «к разным лицам», и в том числе несколько раз перечитал письмо его к В<иктору> П<етровичу> по поводу затевавшегося протеста из-за Надсона, протеста, от подписания которого первый отказался я, и как раз по тем же соображениям, как и Толстой. Я же первый отказался и от «Сборников» на памятник Н – ну, и опять мы совершенно совпали в мотивах отказа с Л. Н-чем. Я читал и то, которое послано, и то, которое не было послано и известно только в черняке, и слезы много раз подступали у меня к горлу, и я любил В. П-ча и хотел бы просить и молить его о том же, о чем молил его Толстой… Я не говорю о несправедливости в суждениях, – она, может быть, искрения, но я сожалею о старании «сделать человеку больно». Это, по-моему, ужасно, и когда это поймешь, то нет сил это переносить. Особенно ужасно «разъединить людей», который уже видят «край жизни и плаванье злое кончают». Я не думал, что в эти же минуты что-нибудь подобное ощущаете и Вы… И подумайте теперь, как я сильно осчастливен Вами, и поверьте моей сердечной Вам благодарности.