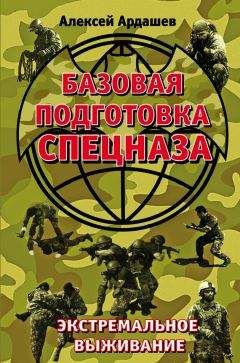О дьяволе и признании его существования я упомянул мимоходом. То, что в реальность дьявола мало кто верит, сравнительно не так существенно, хотя в общем метафизическом здании христианства это всё-таки один из краеугольных камней. Но по характеру своему вся христианская догматика еще гораздо ближе к представлению, что боги живут на Олимпе, в двух шагах от людей, за которыми должны наблюдать, чем к тому образу Вселенной, который возник в новые века. Всё в ней отражает убеждение, —да и могло ли быть иначе? — что Земля, разумеется, плоская, а не круглая, с висящим над ней небом, есть средоточие мира, что Солнце вертится вокруг нас, как наш слуга, единственно для того, чтобы нас освещать, греть, — и так далее, и так далее… Есть что-то во всех этих картинах комнатное, домашнее, почти игрушечное, и когда вдруг вспомнишь, что где-то, в беспредельно-необъятных мировых пространствах, за невероятной тьмой,
за невероятной пустотой и холодом, летят неизвестно куда, неизвестно почему и зачем, другие солнца, в миллионы раз превосходящие по размерам наше Солнце, и что свет от них доходит до нас только через миллионы и миллионы лет, и что, значит, если мы их и видим в телескопы, то лишь такими, какими были они миллионы лет тому назад, — когда вспомнишь всю эту ужасающую, леденящую бесчеловечность Вселенной, стоя в церкви, то и скажешь себе: а ведь, пожалуй, наш Бог, которому мы здесь молимся, — только маленький Бог, подчиненный другим или, может быть, равноправный с ними, но не тот, главный, единственный, абсолютно верховный, власть которого распространялась и над находящимися за Млечным путем мирами во времена, когда самой Земли еще не существовало… Но мысль эта нестерпима и подрывает веру в корне. Легче для человека нашего времени не верить ни во что, чем верить во что-то ограниченное и в мировом масштабе как бы уездное. Кощунственная мысль отброшена, человек остается с выбранным им «ничем»… Но если действительно жизнь, возникшая на земле, возникла лишь в результате игры слепых сил, как выигрыш в триллионно-квадрильонной мировой лотерее, ни к чему не ведущий и рано или поздно обреченный на бесследное исчезновение, если действительно, кроме нас, в мире никого не было, нет и не будет, пустота, мрак, клочья материи, глыбы камней, то как не сойти с ума среди всех этих Млечных путей со всей их квадриллионной бессмыслицей?
Вера должна, вера призвана внести некий порядок в это смятение, а между тем церковное представление о Боге, на словах вездесущем и всемогущем, едва-едва переросло прежние понятья о национальных, частных божествах, и даже распространяя Промысел на всё человечество, независимо от того, молятся ли отдельные народы Аллаху или Будде, — впрочем, и на это соглашаясь не без колебания, — церковь всё еще замыкает Бога в земные пределы, с Землей, как центром мира. Обращаясь к вере, цепляясь за нее, человек сам себе говорит: если нет победы над временем и пространством, то есть если то, что живет, бьется, трепещет во мне, не освобождено полностью от произвола понятий количественных, если этого нет, то вообще ничего нет, и тогда я песчинка из песчинок в непостижимом мне круговороте. Догмат должен бы стать выражением такой победы, заклинанием, призывом, волшебной формулой избавления от страха, — ибо всё-таки в основе веры лежит страх, и кое в чем Минор прав! — догмат должен быть свидетельством веры в высшую силу, для которой нет разницы между миллиметром и миллионом верст, между секундой и вечностью. Но наша догматика именно временем и пространством и ограничена, ей не достает того, что Шпенглер назвал «фаустовским чувством», новым сознанием беспредельности мира. Она создана в века, когда чувство это еще никому не было ведомо.
У Розанова, если не ошибаюсь в «Апокалипсисе», есть чрезвычайно странная страница, странная по своему простодушию и обманчивой логичности. Ему однажды пришло в голову, что солнце — это и есть Бог. Мысль сама по себе глубочайше-естественная, коренная, древняя, как сам человеческий род. Но тут же Розанов со смятением обратился ко Христу:
– Значит, Ты — не Бог?
Почему? Почему? Почему? Какое детское, механическое сцепление суждений! Одно другому не противоречит, и если в Символе Веры о возможной божественности, — то есть о живой чудотворности солнца, – ничего не сказано, то разве всё в Символе Веры сказано? И с другой стороны, разве то, что в Символе Веры сказано, может быть в наше время полностью, без единого исключения предметом веры?
«И восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца…».
Для чего слова эти читаются или поются за каждой обедней, православной, католической, протестантской? Несомненно, для того, чтобы все присутствующие прониклись буквальной и совершенной истинностью их, без каких либо кривотолков. Вознесся на небеса в той плоти, которая и после Воскресения была по учению церкви настоящей человеческой плотью, той же самой, которая изнемогала на Кресте, той, от которой в земле, в добычу разложения и смрада, не осталось ни малейшей частицы. Вознесся на небо и сидит теперь по правую руку от Создателя Вселенной… Но что такое небо? Разве вообще существует небо? Самое понятие это, вдохновлявшее и религию, и поэзию, и всё человеческое творчество в течение веков, — до лермонтовского «неба полуночи», самого глубокого вздоха о потустороннем во всей русской литературе, — понятие это внезапно обанкротилось, лишилось смысла: неба нет, как нет во Вселенной, вне земного притяжения, никакого «верха» и «низа». Среди всех христианских догматов догмат Вознесения представляет собой образец того, во что верить труднее всего. Никакие сделки с умом и воображением помочь тут ничему не могут: невозможно! — и не потому, что «quia absnrdum», в каком-нибудь сверхразумном смысле, а наоборот, потому, что содержание догмата внушено представлением, когда-то находившимся в согласии с разумом. Едва ли кто-нибудь теперь в него действительно верит, и даже люди благочестивые говорят о теле просветленном, призрачном, чуть ли не «астральном». Об этом говорил Бердяев, в остальном заботившийся о том, чтобы не слишком Церкви противоречить, да говорят и другие мыслители, чувствующие невозможность оставить всё в прежнем виде, без поправок.
Но церковь поправок не допускает. По учению церкви, вознеслось тело вполне вещественное, а не «астральное», — иначе неизбежно надо допустить разложение в могиле.
А ведь в «астральной» поправке, распространяющейся, конечно, и на основной христианский догмат, на самое знаменательное из чудес: на догмат и чудо Воскресения, – в поправке этой ни кощунства, ни предательства нет, хотя она и не в ладу с Символом Веры. Есть в ней даже что-то праведно-нравственное, милосердное, способное вызвать в ответ не смущение сердца, а порыв благодарности. Да, то тело, с мускулами, кровью и всем, что составляет и наши тела, разложилось и истлело. Но если Он в милосердии своем, в снисхождении своем, согласился быть человеком, то не распространяется ли это милосердие, это снисхождение и на смерть, то есть не мог ли Он согласиться и умереть такой же смертью, какой умрем все мы, со смрадом, зловонием и всей мерзостью смерти? Не углубляется ли при этом догмат, не восстает ли образ Его в чистейшем сиянии? Не утверждается ли дело Его тем, что Он преодолел смерть как исчезновение, и мог явиться ученикам после того, как умер действительной, настоящей смертью, единой для всего сущего, без телесно-материального восстановления?
Церковь до сих пор учит: «Чаю воскресения мертвых» – и, значит, приглашает верить во всечеловеческое восстание из гробов, в согласии с нашим святым и сумасшедшим рационалистом Федоровым. Но верит ли кто-нибудь действительно в воскресение мертвецов? Эллинизация христианства, неотразимая и неуловимая, отчасти в том и сказалась, что греческая, платоновская, великая идея бессмертия души преобразила и
почти вытеснила в сознаниях тяжелую еврейскую идею воскресения трупов, — и мало-помалу окрылила христианство, внесла в него воздух и освобождение, разрешила какие-то мучительные, двоящиеся, загадочные противоречья, заложенные в самой основе человеческого существа. «Чаю бессмертия души»: без этого не было бы средневековых соборов, с их дивно-взвивающимися в беспредельность игольчатыми башнями, не было бы «безбрежной мечтательности»— по Достоевскому — протестантизма, не было бы, конечно, и самого Достоевского, ни Паскаля, ни Данте, ни Лермонтова, ни многих других.
«Чаю бессмертия всех душ», и хороших и плохих, — потому что если были они плохими, то разве по своей вине? Чаю бесстрашия перед бесконечным пространством и бесконечным временем, и пусть сгниет то, что сгнить должно, ночью, под звон пасхальных колоколов, со свечами, задуваемыми весенним ветром, нет ничего, что сильнее и радостнее объединяло бы людей, сошедшихся вспомнить о самом нужном им обещании и торжестве.
XXXIII.
Перечитывая Чаадаева.