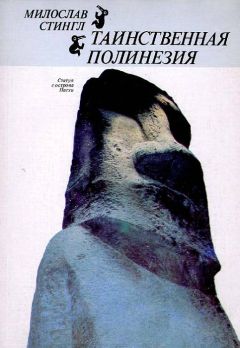— Молчи ты, паршивец! — крикнул на Кирюшку и дед Ефим, почтительно слушавший Осотова: — не служил и не знаешь. Вот пойдешь сам, тогда будешь знать…
— Да я ничаво… — смущенно сказал Кирюшка.
— Ничаво-о… Молод еще клинки подбивать под людьми… Слухать должен и понимать… Он, по крайней мере, урядник — галуны заслужил…
— Это — не сова в дровах… — почтительно воскликнул Максим Рогачев.
— И знай, Лука: за Богом молитва, за царем служба не пропадет! — продолжал назидательно Осотов, но потонул его голос в общем говоре. Среди пожеланий, добрых и героических, огорченных и скорбных, звучал смех, мешались и толклись пьяные речи, с бессильными жестами, вздохами, горестным кряканьем… Кричал голос деда Ефима:
— Ребята, не молчите! ребята, песни играйте!.. Митрий Васильевич, ты далеко сел, ты пересядь к столу! Старше нас с тобой тут нет, — давай, им зачнем старинную…
Красивый смуглолицый старик с белыми кудрями и белой бородой перешел к столу. Я отодвинулся и очистил ему место рядом с дедом Ефимом.
— Луканюшка! не вешай головку, мой сердешный, — сказал он ласково служивому: — не горюй, соколик мой… Какую же? — нагнулся он к деду Ефиму.
— Да уж тебе не подсказывать…
Митрий Васильевич задумался на минуту, словно пересматривая в взволнованной памяти старинный репертуар. Потом откашлялся и, опустив глаза, мягким стариковским голосом начал:
Ой да не думало ведь красное оно солнышко
На закате оно рано быть…
Низким, медлительным звуком старого гармониума присоединился густой голос деда Ефима. Сплелись в одну извилистую, кудряво-певучую струю, потекли рядом два голоса:
Да не чаяла родимая матушка
Свою чадушку избыть…
Они были старые, надтреснутые, с стариковской осиплостью, перерывами и передышками, но тем выразительнее звучала печаль старой песни, протяжной и торжественной, говорящей о горькой тоске разлуки…
И стал стихать жужжащий говор в горнице. Вплелись новые голоса, густые и тонкие, сдержанные и строгие, ибо труден был старинный напев протяжный. И широкие переливы наполнили низкие комнатки, растеклись по всему куреню, — печальные, как догорающий закат, думы всколыхнули в сердце. Медленно слагались слова и глубоко ранили его своею красивой грустью, горьким рассказом неутешной жалобы…
Должно быть, волшебный был голос когда-то у Митрия Васильича — и сейчас он разливался рекой, дрожа, с проникновенной жалостью выговаривая речь горькой кручины материнской:
Избыла-то она, изжила его
Во единый скорый час,
Во единый скорый часочек.
Во минуточку одну…
И тряслись от беззвучных рыданий плечи Прасковьи Ефимовны. Но были строги лица у поющих, никто не шел с утешением: доля матери-казачки — плакать, плачь и ты, Прасковья Ефимовна… И теперь долго одного за другим будешь ты снаряжать и провожать в чужую сторону, и в заботах, в сухоте этой дойдешь незаметно до старости, до сырой могилы…
Как будто недавно пришел со службы, с постылой чужой стороны, муж ее, вот этот самый Семен в нелепом сюртуке и разношенных валенках. И как-то быстро и незаметно промелькнули годы их молодости, веселого труда, праздничных песен, беззаботные и расточительные годы здоровья и силы. И вот уж вырос и идет туда же, в чужую сторону, первый их помощник и кормилец…
Она так привыкла думать о нем, как о маленьком, шаловливом парнишке в розовой рубашке и розовых порточках, точно на этих еще днях подсаживала его на лошадь и смеялась над его растопыренными маленькими ножонками на отвислом животе старой кобылы, которую она сама водила в поводу к водопою, чтобы доставить удовольствие Лукашке проехаться верхом. Вела, оглядывалась и с улыбкой думала:
— Помощник растет… кормилец…
И как будто вчера еще она шлепала его, бедокура, за то, упрямо бросал букварь ради шашек, не берег одежды, по чужим садам лазил, заводил драки на улице, шибался черепками и камнями… Не вчера ли это было?..
А вот уж выстрелы гремят на дворе, поход возвещают и, волнуясь, ржет рыжий Корсак, строевой конь… И он, Лука, — молодой казачок с темным пушком на верхней губе и с печальными глазами — сидит в переднем углу… И звучит-льется старая песня проводов и расставания, скорбью ранящие слова выговаривает:
Уж ты справь же мне, сударь-батюшка,
Червлен-новенький корабль…
Отпусти меня, добра молодца,
По синю-морю гулять…
От старых, верно, времен идет она, эта песня, от времен широкой вольницы и удали, когда вольной волею рвались горячие молодые головы к разгулу широкому во чистом поле, на синем море… Смутно слышала о тех временах Прасковья. А ныне не то уже гуляньице, не вольной волею идут на него. Иной и червлен-новенький корабль: строевой конь и воинское снаряжение по форме, по установленному образцу… И скольких забот, слез, каких усилий и напряжения стоила эта «справа», хорошо знает она, казачка-мать…
Она знает каждую вещь казачьего снаряжения, каждый ремешок, какой требуется представить на смотр, и цену им слишком хорошо знает, потому что все оплатила своей трудовой, облитой потом и слезами копейкой. Знает не просто, например, седло с каким-то «прибором», но и те тринадцать предметов, которые нераздельны с конем и вьюком всадника: уздечка с чумбуром, недоуздок, чемодан и шесть пряжек, саквы сухарные, саквы фуражные, попона с троком, торба, скребница, щетка, фуражирка, сетка, тренога и плеть…
А амуниция? Для кого-нибудь это — простой, несложный звук, ну — что-то такое к ружью, шашке и пике… Для нее это — не один десяток вещей, стоящих не один десяток рублей: портупея, темляк, патронташ, поясной ремень, кушак, чушка, кобура, шнуры, чехол на винтовку…
Знает она, что и для обмундирования нужны чекмени и парадный, и вседневный, двое шаровар, две пары сапог — парадная и вседневная; кроме шинели, нужен еще полушубок, башлык, гимнастическая рубаха, не говоря уже о комплекте белья… Да всего и не перечислить… Подковы, сумка с мелочью, бритва, юфть, иголки, нитки для починки… И все по установленному обряду, первосортное и неимоверно дорогое. А каждый грош облит потом, каждая копейка на счету…
Чуть держится хозяйство. Всякий экстренный расход — свадьба, похороны — вызывает резкие колебания в его равновесии. Но что потрясает до корней — это «справа». На службу царю и отечеству семья отдает не только работника — она отдает с ним все запасы и сбережения, с таким трудом собранные. Купить коня, выдержать, выкормить его, ночей не спать — уберечь от конокрада, дрожать, как бы в комиссиях не забраковали… на десятки лет старит эта сухота казачью семью…
Коня Луканьке хотели поставить своего, «природного», — Буренького. Всем бы хорош конек: и густ, и ноги крепкие, и на ходу легок, — все статьи в порядке, но в меру не вышел, двух осьмых не хватило до требуемого роста. Пришлось продать Буренького и пару молодых быков. На вырученные деньги купили за 180 — Корсака. Рассчитывали: седло отцовское пригодится, — доброе еще седельце. Но как раз ввели седло нового образца, — какой-то генерал придумал «продушину» в ленчике и на семь рублей за это удорожили седло. Продали корову и отдали за новое седло 43 рубля…
— Ничего не уважили, ни копейки, — говорит Семен — на все такция. Иной старик вертит-вертит в руках какой-нибудь ремень, и так, и сяк… шапку снимет, зачнет просить офицера: — «уважьте, вашбродь, сделайте милость… не имею состояния»… — Нет! хочешь бери, а не хочешь, иди, куда знаешь… А без нашего клейма, все равно, не примут… Придешь.
За это клеймо, за однообразие формы, лоск и щеголеватость и идет трудовой грош. В недавние еще годы около клейма грели руки особые поставщики. Теперь их сменили люди в военных мундирах из так называемых военно-ремесленных школ. И мастера и начальники этих школ как-то особенно волшебно — при скромных окладах — приобретают великолепные дома, выезды, достойную осанку, обрастают жиром, — надо полагать, клеймо недурно оплачивается трудовыми казацкими грошами…
Конечно, немножко смешно глядеть, как корявые, плохо умытые, потом пахнущие люди в овчинных тулупах и лохматых шапках с красными верхами подолгу безнадежно бьются, раздражая офицера, заведующего военным магазином, стараясь выторговать какой-нибудь гривенник, как ломают головы, прицениваются, чмокают языками, руками об полы хлопают… А когда молодой казачок, на красивом, подобранном коне едет улицей и блестит новая сбруя, ловко сидит на всаднике новенький мундирчик, на бочок сбита красноверхая папаха, — любуясь, можно чувствовать патриотическую гордость и забыть о том, во что обошелся этот блеск военный, сколько бессонных ночей, тяжких вздохов и дум неотвязных связано с ним у Прасковьи Потаповой… И не думать об одинокой тоске материнской, о которой поет песня: