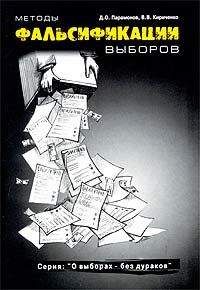Он сидит теперь на чердаке в Париже, а другой, присутствовавший при разговоре, болтается на фонарном столбе. Это метафора, понятно - он расстрелян… И как могло быть иначе? Тогда не было бы революции.
Публикуется с сокращениями по изданию: Вл. Крымов «Сегодня: Лондон, Берлин, Париж». Л.: «Жизнь искусства», 1925.
Федор Лубяновский
Ходоки на Одере
На рандеву с западным обывателем
Дидактичное описание русских нравов мог позволить себе маркиз де Кюстин - ясное дело, француз! Педантичное перечисление обычаев и привычек: как молятся, как обедают, как руку подают, - сделал, будучи в Петербурге, Льюис Кэрролл. И опять понятно: англичанин, педант. Он не заметки пишет, а реестр составляет, любовно выводя латинскими литерами главное русское блюдо - Schie. Не то русский путешественник. Если случается ему заехать в Европу, хоть на лечение, хоть по делу срочно, то уж он пишет не просто заметки. Собственно «путевых заметок» у нас, кажется, почти и не было - зато старинный древнерусский жанр «хождений» никогда не переводился на Руси. А потому простое обозревание окрестностей с детальным внесением в путевой «реестр» цен в гостиницах, нарядов и достопримечательностей русскому претит. Для него путешествие - не передвижение в пространстве, а испытание судьбы и путей Господних. Ясное дело, мир вглядывается в такого путешественника тоже искоса, таким же отстраненным и диковатым глазом. Зато и показывает порой то, что обычному наблюдателю не доступно. И чего только этому ездоку в дороге не привидится. Люди с песьими головами, конечно, не попадутся: чай, не шестнадцатый век. Зато выскочат навстречу диковатые тирольцы, которых только отсутствие бороды и отличает от наших заволжских старцев. Или, глядишь, выедет из-за поворота «старозаветная немецкая одноколка, перед которою злейшая наша кибитка и окаяннейший из тарантасов - настоящая люлька». Таковы записи Федора Петровича Лубяновского - сенатора, литератора, мемуариста. Его путешествие по Германии, Австрии, Швейцарии - самое настоящее «хождение». Не за три моря, но за три границы. Наблюдения и суждения этого ходока порой неожиданны, но оттого особенно любопытны. Тут, пожалуй, так: чем случайней, тем верней.
Отрывки из записей Ф. П. Лубяновского печатаются по изданию: «Заметки за границею. В 1840 и 1843 годах. СПб, 1845»
Случилось мне в Берлине провести целый день в военном мире: утро на большом параде после маневров, вечер в театре.
Teaтр Opernhaus в тот день безденежно был открыт для всех генералов, штаб- и обер-офицеров: с большим трудом я мог достать себе ложу. Все ложи и партер битком были набиты, а театр казался пустым. - Фи! Какая бесцветная, тяжелая, холодная проза - место забавы без женщин! В королевской ложе сидела принцесса, приезжая; еще в двух ложах по два дамы с кавалерами в военных мундирах, да дочь моя со мною в третьей: затем везде эполеты блестели, и фрак, что на мне был, имел честь быть единственным представителем смиренного гражданского быта. Сидел я таким образом между огня и полымя, между пятью с левого и четырьмя штаб-офицерами с правого фланга. Майор левого фланга немало говорил с товарищами в продолжение первого акта оперы, был недоволен, принимал грозный вид, хватался за шпагу; по окончании же первого акта привстал, обратился к майору правого фланга и спрашивал: читал ли он «Прусскую косу» и «Прусского капитана жену»? а говоря через мою ложу, молвил мне эскисе.
Это эскисе, excuses, пробежало вдоль и поперек всю немецкую землю, начиная от Гамбурга, где каждый, сенатор ли он или поденщик, медик или кучер, банкир или нижайший из сидельцов, на площадях и на улицах, на Юнгфер-штиг и на Эспланад, на Гамбургской горе и в Тиволи, на роскошном берегу Эльбы и на скромном, но не без красы, Альстере, одним словом, каждый везде без изъятия пользуется невозбранным правом взять огня у первого встречного, когда цыгарка потухнет, а делается это таким образом: потухла цыгарка во рту у Готлиба, а Готфрид идет лицом к нему с непогасшею во рту цыгаркою: руки у того и у другого опочивают в карманах; в деле губы: отдуются равно у Готлиба и у Готфрида, цыгарки повытянутся, одна к другой прикоснется, и сколь скоро от этого соприкосновения погасшая вновь задымится: то Готлиб скажет Готфриду эскисе и идет в путь свой.
У нас на Руси такое поверье, что Адам Адамович дня не проживет без кофе: безгрешное, да все заблуждение. Спору нет, что истинному немцу без кофе, без пива, без трубки и без ins grune также, как истинному русскому без щей, без гречневой каши, без вина и без на базар жизнь не в жизнь. Но теперь такие времена, что иному Адаму Адамовичу в целый месяц не удастся отведать даже горохового или желудкового кофе. Лукояновец, бывший со мной за границею, говаривал с иронической улыбкою, что кто у них заводил веру, знают про то письменные, а постам не приказано быть у них верно за тем, что они и без того круглый год на постноядении; о водяном супе он вспоминал с решительным презрением, прибавляя, что в нем и вплавь не всегда захватишь горошину.
«…» У немца такой норов: не может жить без работы. Толичка его совсем отделана, только бы сеять. Посмотришь: с головы начинает, от нечего делать опять терзает ее сохой или плугом. Будь у него больше земли, не стал бы он так играть трудом и временем
Говорят, и нет причины не верить, что со времени уничтожения права собственности на людей и зависевшей от произвола помещика барщины обе стороны выиграли, а земледелие и все сельское хозяйство пошли вперед быстрыми шагами. В Пpyccии с Мартынова дня 1810 года все свободны. Другие государства предупредили в этом Пpyccию, только на иных основаниях; некоторые последовали общему примеру весьма недавно. В небольших немецких владениях видел я, однако ж, крестьян, исправлявших натурою точно так же и такую же барщину (Frohndinst), какую крестьяне на издельи исправляют у нас на помещика. В одном владении даже нашел я ветхий днями сбор десятины на Государя со всех произведений земли, до крайности стеснительный для хлебопашца во всех отношениях. Не легок разрыв с стариною!
В Германии, можно сказать, хватка на землю: страстная охота у всех попасть в помещики, gutbesitzer, если не с правом собственности, то с правом временного пользования землею по договору, - и счастлив тот, кому удастся найти себе угол, где может выработать кусок хлеба и с ним достигнуть вожделеннейшей цели всего своего бытия - жениться и умереть, не испытав с женой и детьми, что значит голод; - что уже до того, если будет делать совсем не то, чему учился? Там, впрочем, все и всему учены: просвещенная нация! - Молю тебя, Господи! Спаси православный народ от язвы, которую ты насылаешь на все колена немецкие. Грамотеев у них без числа, как на небе звезд, а избранных из этого множества, приготовленных учением ко всем должностям и занятиям, сколько есть их в быту человеческом, они сами считают у себя более 200 кандидатов на каждое дело и на каждую должность - от копииста до министра, от оспопрививателя до тайного обер-медицинал-рата, от деревенского учителя азбуки до соли земли - профессора, от чулочницы до артиста-портного, oт кузнеца до самого хитрого механика. В ином месте молодец лет 20-25 ходит на практику в суд, practiciren, не менее двенадцати, а был студентом в университете не менее семи лет - безмездно до первого по службе жалованья. Другие переходят из места в место и живут Бог знает чем, пока сыщут, чем приютиться. Отбою иногда нет от них по дорогам: уцепится за дверцы экипажа и не отстанет, пока не дашь ему денег; мало дашь, ропщет.
«…» Родись я русским крестьянином и брось меня судьба за тридесять царств; посмотревши со всех сторон на быт простого народа в Германии и сравнив тамошних богатых, посредственных и бедных земледельцев с нашими богатыми, посредственными и бедными крестьянами, я по совести не умел бы сказать сам себе, чему там позавидовать не глазам, а душе. Не знаю, развернулась ли бы во мне их способность вместо как-нибудь, авось и идет, обдумывать все большое и малое; пришел ли бы ко мне вкус их к порядку в домашнем быту; еще менее знаю, понял ли бы я какое-то сочувствие в них, что каждому тогда только может быть хорошо, когда всем и около него все хорошо, какое-то самоотвержение, с которым они из последнего дают для пользы своей общины, какое-то сердечное наслаждение, от которого там крестьянин, любуясь прекрасным местом, семьею роскошных цветов перед хижиною, забывает на несколько минут свое горе; но верно я не захотел бы ни за что на свете, ни за какое название быть в коже Kother, Hintersassen, Taglohner и даже Hand-werker, которых там, не включая в то число женского пола, гораздо более, чем земледельцев.
«…» В Пруссии, порядочно всмотревшись, мало чему можно позавидовать; но нельзя не отдать пруссаку справедливости в том, что он не любит выставлять на сцену, на посмеяние прародительских обычаев и нравов; гордится, напротив того, своими предками так же, как и современниками, не подглядывая, что у кого и как на стол подавалось и подается, так ли, иначе ли кто одевался и одевается, в карете ли ездил и ездит или в старозаветной немецкой одноколке, перед которою злейшая наша кибитка и окаяннейший из тарантасов - настоящая люлька; гордится Рейном, Одером, Вислою, но и болотами и песками своими.