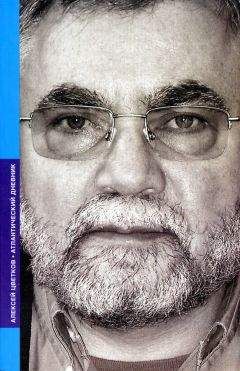Ознакомительная версия.
Ссора между двумя властителями умов Франции, да и не только Франции, разыгрывалась на страницах малотиражных интеллектуальных журналов, но приковала к себе столь пристальное внимание, что эти тиражи на короткое время удвоились. Всех ее аспектов здесь не отразить, но одним из центральных пунктов стало отношение к колониализму. Сартр к этому времени видел в колониальном иге одно из величайших зол современной цивилизации, и это происходило на фоне жесточайшей национально-освободительной борьбы в Алжире. Камю был алжирцем, и его взгляд на эту проблему в любом случае не мог не отличаться от теорий кабинетного освободителя прогрессивного человечества.
Многие из статей Сартра этого времени пронизаны духом возмущения и призывами к революционной жестокости – вплоть до того, что их не принимали некоторые журналы, а правительство подвергало цензурным запретам. Для Камю эта война не была абстрактной идеей, потому что речь шла о его родине. Долгое время он хранил молчание, но затем возвысил голос. Будущее Алжира он предсказать не пытался, но он хорошо понимал смысл несправедливости.
Вот один из эпизодов, приведенных в книге Роналда Аронсона. На следующий день после вручения ему Нобелевской премии по литературе Альбер Камю встретился со студентами Стокгольмского университета, где разговор неизбежно зашел об Алжире. Один из студентов, алжирец, был настроен весьма враждебно и поминутно перебивал писателя.
...
Разгневанный, Камю потребовал, чтобы ему позволили закончить мысль, и настаивал на том, что он всегда прилагал усилия ради «справедливого Алжира, где два народа должны жить в мире и равенстве». Он намекнул на тот факт, что у студента, который его поучает, наверняка есть друзья, которые живы сегодня благодаря его вмешательству. А затем он поверг аудиторию в шок: «Я всегда осуждал террор. Я должен также осудить терроризм, чьи акты осуществляются вслепую, например на улицах Алжира, и жертвой которого может однажды стать моя мать или моя семья. Я верю в справедливость, но прежде всякой справедливости я буду защищать свою мать».
Честность Камю немедленно всколыхнула всю Францию, и он повторил эти слова в письме в газету Monde.
Мы видим, что у Камю не было никаких глобальных идей по поводу судьбы Алжира, а те, которые он высказывал, производили впечатление почти наивных. Мы знаем, что победа, пусть на время, осталась за идеалами Сартра. Но сегодня эти идеалы антиколониализма практически повержены в пыль, потому что Алжир стал ареной многолетней кровавой трагедии, и сейчас совершенно неясно, сколько еще предстоит проливать кровь ради идеалов, в которые уже практически никто не верит.
Сегодня мало кто рискнет всерьез проповедовать кровожадные взгляды позднего Сартра, который к концу жизни впал в интеллектуальный паралич и превратился в идеологического петрушку. А вот предостережения Камю, при всей их мнимой тривиальности, звучат почти пророчеством. Их легко, к примеру, представить себе на фоне политического пейзажа современного Израиля, где идет, может быть, последняя война, имеющая отношение к колониализму, и где совершенно очевидно, что алжирская стратегия Сартра может привести лишь в кровавый тупик – и уже привела. А Камю не дает нам никаких решений, кроме нелюбви к несправедливости – это куда труднее практиковать за столиком кафе, чем мировую революцию.
Камю, надо сказать, никогда формально не порывал с левым движением, он не видел ничего хорошего в капитализме и к Соединенным Штатам всегда относился подозрительно – напомню, что Мартин Хайдеггер, этот столп экзистенциализма и духовный предтеча Сартра, именовал США не иначе как «местом катастрофы». Но фактически «измена» Камю была воспринята Сартром и людьми его круга именно как его переход на сторону США, принятие «буржуазной» шкалы ценностей – тех, которые последний генсек КПСС наивно именовал общечеловеческими. Жестокий рецепт всеобщего благоденствия в глазах благодетелей несоизмерим по значению с любовью к матери.
История этой дружбы и вражды настолько символична и важна для всего минувшего столетия, что почти не замечаешь, как факты перетекают в выводы и нравственный суд. Надо сказать, что у самого автора книги она такого рефлекса не пробуждает. Вот как величественно завершает свою книгу Роналд Аронсон:
...
Оба этих человека давно мертвы, так же как и большая часть проблем, которые вначале свели их вместе, а потом развели порознь. Но их особое и совместное ощущение жизни до сих пор с нами, в том числе и их оппозиция друг другу, – до сих пор с нами, как завещание, как важное письменное наследие, как контрастные модели, как два глубинно связанных силовых поля, определивших их время и их выбор. Завершилось столетие, которое на какое-то мгновение казалось принадлежавшим им совместно, а затем стало предметом ожесточенной схватки между этими братьями-врагами. Неудивительно, что тень от отношений Камю с Сартром легла поперек самых худших и самых лучших воспоминаний этого столетия. И теперь, когда оно завершилось и, прежде всего, завершилась холодная война, мы, может быть, в состоянии воздать должное им обоим и отвергнуть «или-или», посеявшее между ними рознь.
В этом абзаце абсурдным образом перемешана толика нетрудной мудрости с совершенно неприемлемым цинизмом. Неприемлемым, по крайней мере, для меня, не оставляющим возможности не дать на него ответа. Тут ведь не просто позиция пресловутого кота Леопольда, призывающего ребят жить дружно – хотя в данном случае «ребята» уже мертвы. Нас пытаются уверить в том, что холодная война была просто досадной ошибкой, что коммунизм, если взглянуть с достаточной дистанции, не хуже и не лучше гуманизма. Нам пытаются внушить, что хорошая дружба важнее любых нравственных принципов, особенно если речь идет о таких талантливых и замечательных людях. Разве не сказал сам Сартр незадолго до смерти, что Камю был его последним и лучшим другом? А коли так, почему не завершить пьесу этим красивым аккордом?
Сам Камю ничего подобного не говорил – он задолго до этого погиб в автокатастрофе. В любом случае, как это ни парадоксально звучит, во всей поведанной истории ссора куда важнее, чем дружба, и именно ее не стоит терять из виду. Можно сослаться на великую литературу и вспомнить, что ссора – один из самых важных психологических архетипов человеческого поведения, может быть высшая форма твердо принятого решения. Легко себе представить, что, посети шатер Ахиллеса кто-нибудь еще красноречивее мудреца Нестора, ему было бы вполне под силу помирить героя с Агамемноном, и тогда все пошло бы гладко, вот только никто не написал бы «Илиаду». Потому что все дело здесь именно в ссоре, хотя Сартр и Камю поссорились не из-за девицы.
У английского поэта Томаса Гарди, который в России известен почти исключительно как прозаик, есть замечательное стихотворение, ставшее одним из самых популярных в английской литературе. В нем речь идет о «Титанике» и айсберге, которые плывут по мировому океану, не подозревая об уготованной им совместной участи, пока наконец Бог, именуемый здесь «прядильщиком лет», не произносит «Пора!». И они сталкиваются, как два полушария, самой своей формой приговоренные сойтись воедино. Из этих немногих лаконичных строк предстает огромная и трагическая картина предстоящего века, даже если оставить в стороне поразительное предвосхищение ядерной реакции. Тут и скорая братоубийственная бойня, и разочарование человека в своих силах, и его пробуждение от чарующего либерального сна, возвращение в кровавую реальность.
В Камю и Сартре есть что-то от этих роковых полушарий Гарди, и эхо от их столкновения прокатилось на десятилетия вперед. Вопреки благостным уверениям биографа, их недолгая дружба представляет интерес только для этого биографа – для нас, остальных, их ссора куда важнее, потому что она проходит своеобразной нравственной трещиной через все столетие, а мы, несмотря на календарь, пока никуда из этого столетия не убежали.
И Сартр, и Камю не верили ни во что, кроме человека и его короткой жизни. Первый, сидя в своем парижском кафе, пришел к выводу, что наилучшим оправданием такой жизни будет ее принесение в жертву, но он всегда имел в виду чужую жизнь, а не свою, миллионы чужих жизней ради мифа о всеобщем счастье.
К мировоззрению Камю термин «экзистенциалист» подходит плохо – в конце концов, он не был философом срочной службы. Его взгляды принято именовать «стоическим гуманизмом». Отсутствие Бога и воздаяния привело его к идее абсурдности существования, но он, в отличие от своего друга, не поддался искушению всесилия в отсутствие высшего надзора. Он полагал, что человек побеждает изначальную абсурдность своей жизни, ежеминутно совершая нравственный выбор, ведя себя так, словно в отсутствие Бога он сам стоит на страже нравственного закона. Ссора Сартра и Камю не только не тривиальна – она, конечно же, затмевает все страсти Ахиллеса и Агамемнона, потому что речь идет не о бабе, а о самом стержне существования. Сартр полагал, что ради великой цели можно и должно совершать безнравственные поступки, потому что цель оправдывает средства. Но если верить Камю, у нас нет альтернативы нравственности, даже если поставленная перед ней цель лишена малейшего шанса. И было бы позорно злоупотребить его смертью, чтобы помирить его с Сартром.
Ознакомительная версия.