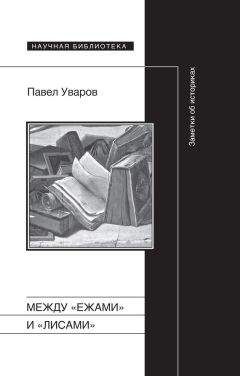В то же время не слабела вера историков в количественные методы, – вера, подкрепленная стремительным развитием вычислительной техники. Оказалось, что можно не только строить графики колебаний хлебных цен, но и описывать, например, изменение представлений о смерти на основании массового анализа завещаний. Историки нового поколения Жак Эммануэль Ле Гофф, Ле Руа Ладюри, Марк Ферро, Андре Бюргьер и др., возглавившие новую редакцию «Анналов» («третьи “Анналы”»), сравнительно со «вторыми “Анналами”» больше увлекались историко-антропологическими сюжетами, изучением ментальностей, стремились безгранично расширить «территорию историка». Они усилили тенденцию, давно присущую «Анналам»: еще Марк Блок писал, что историк должен не строить для себя башню из слоновой кости, где он вдали от шума толпы будет «объективно» изучать прошлое, но, напротив, интересоваться вопросами, волнующими современников, и задавать эти вопросы изучаемой эпохе, выступать в роли переводчика в диалоге прошлого и настоящего, чтобы помочь обществу лучше понять себя. Книга о Монтайю была и реакцией на стремительное исчезновение мира французского крестьянства, и ответом на активное движение окситанских автономистов, настаивавших на особом историческом пути французского Юга, насильственно ассимилированного Севером в ходе борьбы с еретиками. Дебаты вокруг книги Филиппа Арьеса, посвященной детям и восприятию детства при Старом порядке58, были в известной степени созвучны спорам о снижении до 18 лет возрастного ценза для избирательного права (не отдаем ли мы решение судеб Франции в руки детей? Начиная с какого возраста ребенка можно считать взрослым? и т. п.). В дискуссиях историков о контрацептивных практиках и сексуальной жизни французских средневековых крестьян можно было находить параллели к полемике левых и правых о свободной продаже противозачаточных пилюль.
Традицию «Анналов» всегда характеризовал отказ от строго сциентистского стиля изложения, но у представителей «третьих “Анналов”» эта черта была гипертрофирована, их труды изобиловали «пиротехническими эффектами», интригующими поворотами темы, броскими заголовками, неожиданными аллюзиями – все это обеспечивало внимание широкой читательской аудитории и часто определялось как «возврат к традициям Мишле». Историки все больше напоминали звезд шоу-бизнеса. Они вели постоянные передачи на телевидении (как, скажем, Жорж Дюби с его циклом «Время соборов»), к ним приходила международная слава – показательным примером здесь может служить запоздалый перевод шести59 (!) книг медиевиста Жака Ле Гоффа на русский язык. В 1980 году, во время своей триумфальной поездки по Соединенным Штатам, Ле Руа Ладюри читал лекцию в одном из колледжей Восточного побережья. В аудиторию, рассчитанную на 200 мест, набилось вдвое больше слушателей. Внезапно отказал микрофон, слова докладчика могли расслышать только сидевшие в первых рядах. Однако никто не покинул зала: ведь собравшихся привлекала не проблематика аграрной истории, а харизма знаменитого ученого.
Поколение «третьих “Анналов”» без ложной скромности нарекло себя «новой историей» или «новой исторической наукой» – впрочем, не афишируя разрыва с поколением Броделя – Лабрусса, подчеркивая, что они по-прежнему заняты написанием «тотальной истории». Однако сам Бродель в 1985 году с горечью констатировал «огромный разрыв», возникший между ним и его наследниками, полностью упустившими перспективу этой «тотальной истории» из виду.
Действительно, в 1971 году Пьер Нора возглавил основанную за год до этого издательскую серию «Библиотека историй». Непривычное множественное число указывало на распыление предметного поля «новой истории», обернувшегося теперь бесконечным множеством изучаемых объектов. Величественная река истории дробилась на очаровательные ручейки, все дальше разбегавшиеся друг от друга. Позже, уже в середине 1980-х годов, французский историограф Франсуа Досс резюмировал этот процесс в характерном названии своей книги: «История в осколках»60.
С историей действительно происходило что-то необычное. Успехи «новых историков» привели к тому, что национальный миф Лависса рухнул и на уровне школьного образования. История в школе перестала быть рассказом о событиях и о великих личностях, но результаты не радовали. «Нашим детям больше не преподают историю!» – так в 1979 году назвал свою статью в «Фигаро» Ален Деко, положив начало шумным дебатам о школьной истории, исчезавшей из программ и из памяти французских лицеистов.
Начался массовый пересмотр историографических мифов, и привычные «гирокомпасы» быстро вышли из строя. Французы с удивлением наблюдали, как развеиваются голлистская и коммунистическая версии истории Второй мировой войны: легенда о Франции оккупированной, но не признавшей поражения, сражающейся, ушедшей в маки. Постепенно выяснялось, что большинство населения в 1940 году если не с энтузиазмом, то с облегчением узнало о быстром выходе Франции из войны и на первых порах поддержало маршала Петена и правительство Виши. В то же время так называемые историки-ревизионисты (их еще называли «негационистами», т.е. «отрицателями») задавали вопрос: «А вообще был ли Холокост и газовые камеры? Не является ли это очередным мифом?»
Под влиянием еврейской общины менялось отношение к Холокосту. Если раньше жертвы депортации чтились как граждане Франции, погибшие за свою страну и при этом бывшие евреями, то теперь – как уничтоженные нацистами евреи, которые при этом были гражданами Франции.
Выяснилось, что история не едина, а распадается на память разных этнических и социальных групп. Французские цыгане выдвигали свою версию депортации по расовому признаку. В Вандее настаивали на своей оценке Французской революции, обернувшейся «франко-французским геноцидом». Бретонцы оплакивали битву при Сент-Обен-дю-Кормье, положившую конец независимости Бретани, и в 1970-е годы все чаще развертывали gwenn ha du– бело-черное бретонское знамя.
В 1978 году вышла нашумевшая книга Франсуа Фюре «Постижение Французской революции», в которой он разрушал святая святых французского исторического сознания – традиционное представление о Французской революции как закономерном политическом следствии социально-экономических причин, и демонстрировал идеологическую ангажированность господствующих «якобинских» версий революционной истории.
Не могли не смутить историков и эпистемологические дискуссии 70-х годов. Сначала философы, а затем и некоторые историки поставили под сомнение утвердившееся понимание истории как социальной науки. Среди критиков выделялись голоса Реймона Арона и Мишеля Фуко, стремившегося доказать, что историки наивно полагают самоочевидным существование объективных социальных структур и понятий, которые на деле являются если не творением чьей-то злой воли, то, во всяком случае, результатом целенаправленного вмешательства в социальную практику.
Исторической реальности, которую ученому только надлежит старательно описать, в готовом виде не существует. История не наука, и она никогда не сможет ею стать, если только не перестанет быть самой собой, – писал в начале 70-х годов историк-антиковед Поль Вейн, соединяя аргументы «критической философии истории» Реймона Арона с аргументами, заимствованными у Мишеля Фуко. Удел истории – не знание, претендующее на научность, а повествование и рассказ, удовлетворяющий любознательность. Историки должны налаживать междисциплинарные связи не с социологами, а с философами, задаваясь вопросами об эпистемологических основаниях своих теоретических практик61. Все чаще говорили, что историки слишком увлеклись описанием структур, забыв об изначальной функции истории – рассказе о событиях62, и даже – что история больше похожа на искусство (впрочем, это не мешало историкам громко возмущаться тем, как плохо финансируется наука).
Становилось модным утверждать, что историческая реальность не воссоздается историком, а конструируется им; причем это конструирование, как убеждали французов заокеанские адепты «лингвистического поворота», осуществляется посредством языка. Возвращались те формы, которые макросоциальная история, казалось бы, навсегда отвергла: «рассказ» вместо «количественного анализа структур», «субъективность» вместо «объективности», «событие» вместо «истории большой длительности».
Конечно, большинство историков продолжало работать по-старому, опираясь на источники по рецептам Ланглуа и Сеньобоса или заполняя статистические таблицы, как учил Лабрусс, и лишь изредка устремляя взор в заоблачные высоты эпистемологических споров. Но поскольку «ситуация в верхах» делалась все менее понятной, они только пожимали плечами, не без основания полагая, что гремящие там громы к ним не относятся. Впрочем, научная ситуация зримо изменилась: «время сомнений», как называют теперь рубеж 1980—90-х годов, поставило перед сообществом историков целый ряд проблем. Сейчас, спустя два десятилетия, можно сказать, что эти проблемы так или иначе были решены.