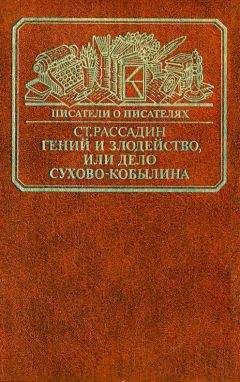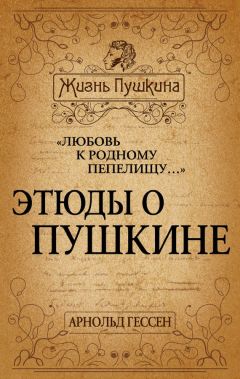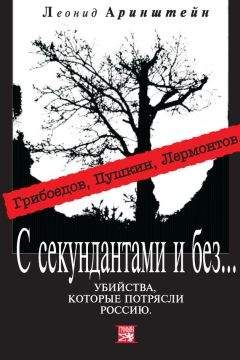Это из Куприна, из рассказа, сочиненного в 1904 году, совсем вскоре после сухово-кобылинской кончины, и как снова не повторить: «Расплюев везде»?.. Везде — а может быть, и всегда, во всяком случае, очень надолго; так что Александр Иванович, пожалуй, напрасно озаглавил этот рассказ «Корь», поторопившись с брезгливым, но оптимистическим диагнозом:
«Ваш идеальный всероссийский кулак, жмущий сок из народишек, никому не опасен, а просто-напросто омерзителен, как и всякий символ насилия. Вы — не болезнь, не язва, вы — просто неизбежная, надоедливая сыпь, вроде кори».
Сухово-Кобылин, автор «пьес будущего», прозорливее, ибо жестче в диагнозе. Его логика, явленная в монологе Расплюева, воспевшего свое неутолимое чрево, да и во всей расплюевский эволюции, безотказна и неотступна.
Вкус — даже самый первоначальный, отнюдь не духовный, общедоступно-материальный — это все же отличка, робкая наметка индивидуализации; известно же, один любит арбуз, другой — свиной хрящик. И эта-то вкусовая отличка, сопровождавшая того Расплюева, уступает в этом место алчности в ее наигрубейшем (не хочется сказать: в наичистейшем) виде. Алчности, воспроизводящей только себя самое, алчность же. То есть — доступной оборотившемуся Расплюеву формы того, с чем мы тесно соприкасались прежде: бюрократического бумажного «дела» ради «дела», полицейского устрашения ради устрашения.
Это сравнение — не натяжка, а, повторяю, неотступная, до предела, до неминуемого парадокса, сухово-кобылинская страсть к извлечению сути. Как Варравин, в отличие от связанного предрассудками, несовершенного взяточника Тарелкина, не хотел и не мог укротить своего аппетита, отчего и являл собой совершеннейшую из особей этого рода, так и Расплюев — совершенство. Итог. Конечное и идеальное воплощение воспринятой им идеи. Гений-брюхо — да, гений, отчего бы и не задеть бесцеремонным фарсом этого высокого слова? Даром, что ли, помянут был Никколо Паганини?..
Умствуя по поводу юмора, сарказма, фарса, проще простого самому потерять чувство юмора и заслужить сарказм, — а все же позволю себе заметить следующее. В эволюции Ивана Антоновича Расплюева, в преображении его брюха, в превращении лукавой и, что бы там ни было, обаятельной, так сказать, ламмегудзаковской плотоядности в неразборчивую, отталкивающую алчность — во всем этом есть, представьте себе, нечто, отразившееся в одном высокоученом споре. Между выдающимися мыслителями нашего времени Михаилом Михайловичем Бахтиным и Алексеем Федоровичем Лосевым.
Спор шел о Рабле и раблезианстве, о «телесном низе», о «пиршественных образах», о «брюхе».
«Все первые подвиги Пантагрюэля, совершенные им еще в колыбели, — это подвиги еды».
Пока я цитирую Бахтина, и слово «подвиги» здесь вполне красноречиво, — что, впрочем, немудрено:
«Еда в древнейшей системе образов была неразрывно связана с трудом. Она завершала труд и борьбу, была их венцом и победой. Труд торжествовал в еде».
Мало того:
«Еда и питье — одно из важнейших проявлений жизни гротескного тела. Особенности этого тела — его открытость, незавершенность, его взаимодействие с миром… Здесь человек вкушает мир, ощущает вкус мира, вводит его в свое тело, делает его частью себя самого… Эта встреча с миром в акте еды была радостной и ликующей. Здесь человек торжествовал над миром…»
Но стоит начать цитировать «Эстетику Возрождения» Лосева, как простой перечень раблезианских образов выдаст нам раздраженную неприязнь исследователя:
«Огромную роль у Рабле играют мотивы разинутого рта, глотания, сосания, обжирания, пищеварения и вообще животного акта еды, пьянства, чрезмерного роста тел, их совокупления и беременности, разверзшегося лона, физиологических актов отправления» — и т. д., и т. п., вплоть до эмоционального вывода:
«Итак, реализм Рабле есть эстетический апофеоз всякой гадости и пакости. И если вам угодно считать такой реализм передовым, пожалуйста, считайте».
Совсем не мое дело — вникать в перипетии спора двух ученых, и мне-то здесь важно лишь одно. Возможность взглянуть на то, что традиционно считалось воплощением веселья и здоровья (больше того: аналогом труда, даже «подвигом»), что было неотделимо от плотского (но и духовного) обаяния Гаргантюа и Пантагрюэля, Ламме Гудзака или Санчо Пансы, — взглянуть на все это так, как взглянул Алексей Федорович Лосев. Как на следствие падения, распада, деградации — в том числе и прежде всего моральной:
«Что бы мы ни думали о Ренессансе, это прежде всего есть эпоха высокого героизма… Совершенно противоположную картину рисует нам знаменитый роман Рабле, где вместо героя выступает деклассированная богема, если не просто шпана, вполне ничтожная и по своему внутреннему настроению, и по своему внешнему поведению. Печать какой-то деклассированности и даже нигилизма лежит на этих «героях» Рабле».
От прямых аналогий с нашим Иваном Антоновичем — боже сохрани. Важно, однако, что Расплюев вызывает подобные ассоциации — да, кажется, и не может не вызывать. «Печать какой-то деклассированности», неизгладимо легшая на него еще в первой комедии, в «Смерти Тарелкина» въелась, врезалась, став чем-то вроде ужасного клейма, которое не ужасает лишь потому, что автор предпочел фарс, а не драму, балаган, а не жизнеподобие, клюквенный сок, а не кровь. Но тем не менее неуклонно провел бывшего шулера, так сказать, «от Бахтина к Лосеву», — если в «Свадьбе Кречинского» к его ненасытности еще можно относиться с мягкостью Бахтина, то в «комедии-шутке» к ней невозможно отнестись иначе, чем Лосев.
Ошибусь ли, кстати, предположив, что на лосевское восприятие (в отличие от «академического» взгляда Бахтина) свежо повлиял его опыт нашего современника и пристрастного читателя русской литературы (может быть, и Сухово-Кобылина)? Возможно, что ошибусь, но, сдается, не безнадежно, потому что пути, ведущие к распаду и деградации общества и людей, схожи, и карьера Ивана Антоновича Расплюева, «шпаны», которой так привольно в условиях, где она действует «вместо героя», вполне соотносится с жесткими закономерностями, обозначенными Лосевым.
Расплюевское брюхо — фарсово-грубый, нарочито вульгарный, «телесно-низовой» символ бесконечности, ненасытимости полицейского произвола, как и «дело» ради «дела» означает безысходную замкнутость бюрократического уклада. И кто, как не эта воплощенная прорва, должна была с «крайней степенью беззаботности», этой вненравственной разновидностью простодушия, вычеканить девиз, каковой, помним, будет весьма внятен и министру внутренних дел, шефу жандармов графу Дмитрию Андреевичу Толстому:
— … В сяко го подозреваю…
Да брюхо, которое есть «огнь неугасимый и червь неутолимый», и не может насытиться при помощи переборчивости и полумер.
А что стало с доверчивостью, коей также был отличен тот Расплюев, свято веривший даже тому, над чем скептически ухмылялся камердинер Федор: что Кречинский, разбогатев, сдержит слово и даст ему двести тысяч? Она словно бы осталась в неприкосновенности:
— Вы мне вот скажите, что вон его превосходительство обер-полицимейстер на панели милостыню просит — ведь я поверю… Нрав такой.
Однако не будем делать вида, что позабыли: как было сказано, доверчивость эта — к идее, что никому верить нельзя, а простодушие — беззаботное отношение к законности, которая может помешать успеху «инквизиционного процесса».
Sancta simplicitas…Святая простота… Не зря само это словосочетание родилось в устах Яна Гуса, увидавшего, как богобоязненная старушка подбрасывает в его мученический костер своего посильного хвороста. И инквизиция — на сей раз самая натуральная, нисколько не в переносном смысле — тоже бывала, а в начале своем и убежденно была исторически простодушной.
«Они, — сказано было о еретиках, — убивают души людей, в то время как власти только подвергают пыткам их тела; они вызывают вечную смерть, а потом жалуются, когда власти осуждают их на временную смерть».
Сказано самим блаженным Августином, полагавшим, конечно, совершенно всерьез, что наказание за ересь — «акт любви», и если имя его, очутившись, признаемся, в нежданном соседстве, этим соседством оскорблено и буффонно снижено, то потому лишь, что искренняя, простодушная вера в свое право распоряжаться судьбою и жизнью ближнего, всегда оставаясь собою, имеет множество разновидностей и оттенков: от убежденного фанатизма до убежденной безнравственности.
Простодушие вообще — не достоинство, а пока только предпосылка.
…«Средние люди» Зощенко или Эрдмана — не злодеи, даже если творят зло; куда им? Они пусть и не взывают к жалости, но достойны ее. В этом смысле их создатели — сами порождения гуманнейшей из литератур… Да, впрочем, и плацдарм, на котором действуют эти герои, коммунальные кухни и коммунхозовские подотделы, те ли это места, где способны родиться и, главное, развернуться Макбеты и Ричарды?