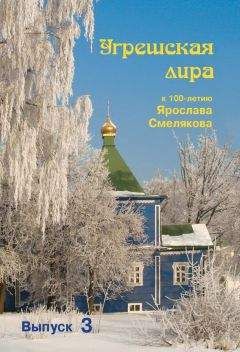Словом, читая книгу, где автор на каждой странице именует Осипа Эмильевича Мандельштама "Осей", вспоминаешь одесскую песенку "А Саша Пушкин тоже одессит", конечно же, вспоминаешь Абрама Терца, у которого "Россия-сука", а Саша Пушкин "паркетный шаркун", ну чем не брат "сорванцу", "шалуну", "жиденку" Осе! Словом, "Желтое и черное" и "Прогулки с Пушкиным" как бы книги-близнецы, но все-таки надо оговориться, что под ерничеством и амикошонством Аркадия Львова скрываются куда более глубокие толкования и чувства, нежели в иронических пассажах Синявского, от которых явно попахивает интеллектуальным мародерством…
Еще один упрек автору: в книге есть несколько исторических мифов, противоречащих фактам. Так, например, вспоминая стихи Мандельштама о Сталине, Львов пишет: "Кто на Руси, кроме еврея Мандельштама, который, как последний трус, бежал в Александрове, на Суздальской земле, от потешного бычка одногодка, отважился сочинить да пустить в люди такой стих? Никого не назвать, ибо никого не было".
Но тут я хочу вступиться за честь русской почвенной литературы. Да помилуйте, Аркадий Львович, Вы хорошо знаете жизнь и поэзию Осипа Эмильевича, но гораздо хуже историю всей литературы тех лет. Мандельштам прочитал стихи о "кремлевском горце" в узкой дружеской компании единомышленников и единоплеменников, пришедших в ужас от дерзости поэта. И кто-то в конце концов из них не выдержал и от страха "стукнул" куда надо. Остальные, кто не стукнул, тряслись в ожидании ареста. А в это время или даже чуть раньше русские поэты, бывшие друзья Есенина, — Сергей Клычков, Николай Клюев, Петр Орешин, Василий Наседкин — на всех углах поливали последними словами вождя народов. То в ресторане Дома Герцена, то просто на улице среди случайных людей, не стесняясь, кричали о том, что Сталин тиран, что кругом еврейское засилье, "что Каганович сволочь"; Николай Клюев в разных домах читал совершенно антисоветский цикл "Разруха" и "Погорелыцину". Павел Васильев — двадцатидвухлетний мальчишка (в то же время) написал убийственную и оскорбительную эпиграмму на Джугашвили и, не таясь, читал ее где угодно по первой просьбе своих друзей и поклонников. Так что русские поэты в начале тридцатых годов вели себя куда как более вызывающе и дерзко, нежели Осип Эмильевич. Обо всем этом я узнал, прочитав их уголовные дела, хранящиеся в архивах ЧК — ОГПУ — НКВД…
Я понимаю, что для многих читателей "Нашего современника" публикация "Желтого и черного" будет неожиданна. Может быть, даже кто-то осудит нас и скажет: зачем в русском журнале обсуждать еврейские дела? Ну, а мне, думаете, не жаль избавляться от своих юношеских увлечений и от своих иллюзий, отдавая окончательно и бесповоротно Осипа Мандельштама в чужие руки? Но что делать! Русско-еврейский вопрос, видимо, будет в ближайшем будущем разрешаться только на пути потерь, утрат и разочарований.
"Когда погребают эпоху — надгробный псалом не звучит"… А потому и звучат вместо него одесские хохмы и панибратские ужимки, в которых доселе русский поэт предстает евреем, всю жизнь ломавшим "перед собою и миром эллина". Можно добавить "и русского". Но не хочется.
Да и развязность эта напускная, порой несколько вульгарная, все-таки, кажется мне, кое-где прикрывает собою ни с того ни с сего внезапно набегающую на глаза слезу. Так что не только мне одному тяжело прощаться с эпохой. Жалко мне навсегда расставаться с Вами, Осип Эмильевич. Тащит Вас обратно в "иудейский хаос" Аркадий Львович, как еврейский ангел смерти Малхамовэс. Нет у меня сил удержать Вас в Русском лоне, и кружатся надо мной только обрывки строчек, словно бы после взрыва плывущие в воздухе:
Уведи меня в ночь, где течет Енисей,
где сосна до звезды достает…
Сам Анатолий Передреев восхищался и повторял: "где сосна до звезды достает" — как этот маленький еврей мог так почувствовать космическое величие России?
А может быть, строчка, плывущая в воздухе, совсем не про Енисей, а про Кремлевские соборы:
А в запечатанных соборах,
Где и прохладно и темно,
Как в нежных глиняных амфорах,
Играет русское вино.
Архангельский и Воскресенья
Просвечивают, как ладонь —
Повсюду скрытое горенье,
В кувшинах спрятанный огонь.
Вспоминается Александр Межиров, декламирующий мне это стихотворение на Тверском бульваре и вкрадчиво спрашивающий: "Станислав, как вы думаете, а возобновятся ли когда-нибудь службы в Успенском соборе?" Нет, умные все-таки люди наши русские евреи!..
Но ежели Вы, Аркадий Львович, определенно и окончательно хотите зачислить Осипа Эмильевича "по еврейскому менталитету", то зачем Вам тогда заканчивать книгу словами: "27 декабря 1938 года не стало Осипа Мандельштама. Закатилось солнце русской поэзии"? Если следовать неумолимой логике Вашей мысли, то надо бы Вам написать точнее. Ну хотя бы "солнце русскоязычной поэзии", или "солнце русско-советской поэзии", или "солнце еврейской поэзии, созданной на русском языке". К тому же "солнце русской поэзии" у нас одно, а все остальные — звезды, метеориты, спутники, кометы… Из размышлений Ваших все-таки следует, что Осип Эмильевич, скорее всего, просиял, как "незаконная комета" на русском поэтическом небосклоне. Возьмите, Аркадий Львович, эту незаконную комету, заприте ее в свою комнатку, мне ведь все равно останется до конца жизни несколько строчек, ну хотя бы из "Батюшкова":
Так подымай удивленные брови,
Ты горожанин и внук горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан.
Прощайте, Осип Эмильевич… Впрочем, последнее слово по справедливости, конечно же, должно принадлежать не Аркадию Львову и не мне, а Вам, ибо Вы лучше нас сознавали свое невеликое, но прочное место в отечественной литературе: "Последнее время я становлюсь понятен решительно всем… Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются и растворятся в ней, кое-что изменив в ее строении и составе" (из письма к Ю. Тынянову от 20 января 1937 года).
Так что не усидит Осип Эмильевич в маленькой еврейской этнографической комнатушке. Особенно сейчас, когда многие его строки 30-х годов обретают новую жизнь. Ну, например, "как подкову кует за указом указ"; "власть отвратительна, как руки брадобрея", "и вокруг него сброд тонкошеих вождей", "умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи"…
А может быть, все-таки не столько Осип Мандельштам "наплыл на русскую поэзию", сколько она "наплыла" на него, преобразовав, насколько это возможно, иудейский хаос в частичку того теплого и человечного душевного мира, который мы называем "русским космосом".
Да о какой комнатушке может идти речь, Осип Эмильевич, когда плоть Ваша растворилась в российской земле, душа унеслась в наше небо, а стихи пополнили океан русской поэзии. Земля, небо, океан, а там всего-навсего какая-то племенная комнатушка…
Все, Александр Сердцевич,
Заверчено давно…
Брось, Александр Скерцевич,
Чего там, все равно…
Все заверчено, завинчено, закончено давно, дорогой Александр Львович. Так что оставим Осипа Эмильевича в России. Тем более что он сам завещал, чтобы "улица Мандельштама" возникла только на русской земле…
Напрасно пытаются забрать Вас у меня, Осип Эмильевич. Когда Россия была центром мира, то и Вы были русским поэтом. А когда Россия стала провинцией, то упаковывают Вас и увозят от Москвы и Петербурга, от сосны, которая "до звезды достает", в комнатку детройтского этнографического музея, возвращают то ли в "иудейский хаос", от которого Вы, по собственному признанию, "бежали", то ли в Иерусалим под Стену Плача… Словом, из поэта, рожденного в великой России, превращают Вас в какой-то племенной тотем. Обидно, Осип Эмильевич, после русских просторов, снегов и небес, укрывших Ваши останки, снова завернуться в черно-желтый талес. Обидно. А что делать? История-то кончается, и перед ее концом суетливые потомки наши пытаются расставить все и вся по местам, как посуду в буфете…
Октябрь 1993"
P. S. После этой публикации Аркадий Львов приезжал в Россию, но больше в журнал "Наш современник", к сожалению, не заходил.
От любви до ненависти один шаг. Татьяна Глушкова жжет корабли. Ее письма ко мне на рубеже 70-х — 80-х годов. Сказка о рыбаке и рыбке. Речь Татьяны на моем юбилее. Прощание с иллюзиями
"Что ты, баба, белены объелась?"
В августе 1989 года я стал главным редактором журнала "Наш современник", начал думать о том, как обновить редколлегию, а через несколько дней получил от Татьяны Михайловны Глушковой просительное и одновременно требовательное письмо, в котором она предлагала себя в члены редколлегии журнала: "украшение редколлегии громкими именами, чтобы в итоге равноправно соседствовали Шафаревич и Стрелкова при паническом недопущении мысли ввести хоть под конец жизни в редколлегию столь добросовестного ко всякой чужой работе (и не менее Ирины Ивановны известного всем человека) означает для меня… " — далее шло всяческое осуждение нового главного редактора. А я ни за что не хотел вводить Глушкову в редколлегию, невзирая на "известность", "добросовестность " и наивный шантаж ("под конец жизни"). Я слишком хорошо знал ее характер и хорошо помнил, как однажды по моей и Кожинова просьбе Анатолий Передреев в 1981 году ввел "известную" и "добросовестную " в редколлегию "Дня поэзии". Через месяц-полтора моему другу пришлось со страшным скандалом порвать с "добросовестной " за капризы, склочный характер и мелкое интриганство. Глушкова бросилась с жалобой в секцию поэтов к Цыбину, но там лишь посмеялись над ее истерическими претензиями руководить Передреевым. Вот почему я, прочитав письмо Глушковой, подумал: "Печататься — пожалуйста: статьи, стихи, "круглые столы", хоть два, хоть три раза в год, но чтобы в редколлегию с такой феноменальной способностью ссорить всех со всеми — ни за что!"