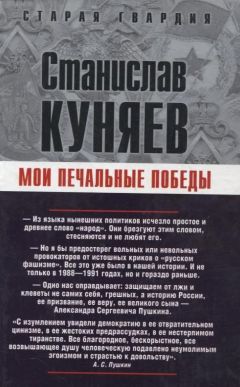Искренне Ваш В. Василенко.
30 марта 1984 г.».
* * *
«Дорогой Станислав Юрьевич!
Поздравляю Вас с днем ПОБЕДЫ и желаю счастья и еще новых прекрасных стихов. Поэзия — это единственно самое высокое из искусств, в нем ярче и полнее звучит голос сердца. Анна Ахматова писала: «Наше священное ремесло существует тысячи лет… С ним и без света миру светло…» Я уверен, что в этом истина. Мне поэзия, я это знаю, помогла жить тогда, когда смерть почти стояла у моего изголовья.
С искренним уважением В.М. Василенко.
6 мая 1984 г.»
* * *
«Дорогой Станислав Юрьевич!
Посылаю Вам мой перевод «Ворона». Побудило меня заняться им то, что Эдгару По придавали больше в словах и выраженьях пышности, чем у него их было. Эд. По все же очень прост, но простота эта высоко изысканная. Бальмонт и Брюсов облачали «Ворона» в слишком роскошные одежды, так мне кажется. Над своим переводом я работал очень долго. Он был начат в 1950 в Абези на Воркуте (я там нашел несколько листков английского текста, вырванных из книжки, каким-то чудом попавших туда, и, уединившись, стал переводить).
Главное, еще что я хотел дать в моем переводе — это восстановить основную мужскую рифму, которая проходит через все стихотворения у Эд. По. Но Бальмонт и Брюсов отступали от этого, и когда текст подходил к появлению «Ворона», рифма менялась. Это не хорошо. У По рифма проходит сквозь все строфы, как тонкая изящная колонна, и на ней, как я уже сказал выше, все держится.
Наконец, «Невермор» Бальмонт один раз оставил, но ведь ворон — англичанин, говорит по-аглицки и потому оставлять в русском с английского только одно слово английского неверно: вот если бы ворон говорил по-гречески с англичанином-поэтом, тогда дело другое.
Брюсовское (и у других) «Никогда», иногда у него же «больше никогда», точно по смыслу, но противоречит замыслу поэта. Во второй публикации «Ворона» Эдг. По писал, что хотел в «Невермор» (простите, что пишу по-русски, у меня в машинке только русский алфавит) передать хриплое карканье ворона. Невермор подходит.
В русском «Никогда» (хотя это по смыслу очень точно) этого хриплого карканья нет и в помине, и основная идея поэта ускользает. В этом звучанье, в его символике было то, что много после очаровало символистов, открывших Эдгара По. Помимо этого в «Невермор», мне кажется, есть что-то от изящной и легкой конструкции, такой, как конструкция, скажем, решеток, вымпергов, «витражей» английской готической архитектуры. Эта «готичность» иногда (очень изящная) звучит в некоторых английских словах! Я не могу принять поэтому и перевода М. Донского. В его переводе, скажем, правда, — и это, безусловно, достоинство — есть единая рифма, но это «никогда». И легкий Э. По очень звучит тяжеловесно: «Гость пожаловал сюда»… «о, Линор, моя звезда!» и пр. Неудачно у него и начало, очень важное в стихотворении: «Раз (?!) в тоскливый час полночный я искал основы прочной (?!). У Э. По ничего этого нет. Нехорошо: «Восседает Ворон черный (у Эдг. По нет нигде нет в целом указания на то, что Ворон черный, это ясно и так, и только в последней строфе он говорит о черных перьях, но это другое), давит будто глыба льда» (это все отсебятина).
Не могу принять и перевод Е. Бетаки (Избран, соч. Э. По в двух томах, 1973). Он переводит: «Грозно каркнул — не вернуть!». Слово «Не вернуть» легковесно, незначительно, чересчур бытовое, а потому и «грозно» не помогает. Я долго искал и пришел к «Возврата нет!» Согласитесь ли Вы? В нем есть легкость готической конструкции «Невермор» и величественность. До меня кроме Бальмонта и Брюсова (их переводы, конечно, все-таки хороши) переводили многие. Оболенский в 1978 г. дал «Возврата нет!», но я об этом узнал лишь недавно. Но остальное у него не хорошо. «Да, я один, ея уж нет, — всю ночь не сплю. Мерцает свет!» и т. д. У Мережковского очень приблизительно; «Тот, кто Ворона видал — не спасется никогда». Вот это и побудило меня попробовать перевести «Ворона», конечно, тоже несовершенно, но внести новое.
Искренне рад. Звоните мне. Я очень рад всегда Вашим звонкам. Поклон Вашей жене и Сереже. Ему большая благодарность за труд «извлечения» моих виршей из недр редакции.
В. Василенко.
18 мая 1984 г.».
* * *
«Дорогой Станислав Юрьевич!
Скоро, видимо, Вы вернетесь. Я очень завидую Вам (самой хорошей и святой завистью), как много Вы, наверное, увидели? Впечатлений много у Вас, а значит, будут еще новые хорошие и необычные стихи. Природа, мир, люди — извечный материал для поэта.
Я же очень устал: много было работы в МГУ: защиты по дипломам, выступление оппонентом по одной диссертации. Стихов не писал, но вечерами перебирал стихи, которых нет у Вас в рукописи, и кое-что подобрал. Должен сразу же сказать, что это не означает, что их нужно добавить, я просто так решил послать несколько из них, думая, что, может быть, Вам они покажутся интересными. Буду рад, если найдете время и позвоните. Я вечерами, как правило, с очень редкими исключениями, дома. Мой поклон Вашей жене и сыну (я их знаю по голосам по телефону, голоса у них очень милые, хорошие, и мне было с ними приятно разговаривать). Прочел в «Лит. газете» статью о Солоухине, где (она написана к его 60-летию) А. Вознесенский дает ему «братскую руку» и говорит, что нужно поэтам жить в мире. А я и не знал, что они, т. е. я имею в виду «направления», так уж были далеки друг от друга. Прочтите эту статью, Вам, наверное, она будет интересной.
С глубоким уважением В. М. Василенко».
* * *
И вот судьба повернулась так, что однажды в конце восьмидесятых, еще при жизни Виктора Михайловича я попал в места, где он коротал вместе с Карсавиным и Пуниным свои невольные годы.
Ранняя весна вовсю гудела над еще невзрачной, не отошедшей от зимы тайгою. Ровный южный ветер слизывал с берегов последние залежи снега; птицы, захмелев от круглосуточного сиянья, пели не умолкая и днем и ночью; над бело-розовыми цветами толокнянки гудели тяжелые шмели, унося с крошечных соцветий нектар в свои подземные гнезда, чтобы превратить его там в прозрачные капли кисловатого шмелиного меда.
Маленький кулик вылетел из-под моих ног, когда я шел побросать блесну на перекат. Птица растопырила хвост, обнажив белый веер оперенья, заверещала и словно бы поползла среди кустов вереска, как не умеющая летать. Я понял, что самочка, умирая от ужаса, жертвует собой — и подошел к трухлявому пню, из-под которого она выпорхнула. Там, во мху, лежало четыре зеленоватых яичка в коричневую крапинку…
К вечеру я вернулся в лагерь с заплечным мешком, в котором было несколько хариусов, да пара щук и когда мы разлили водку в эмалированные кружки и выпили ее под горячую уху, спросил своих спутников — местных ребят Костю и Михаила, а что это за развалины я видел на том берегу реки Усы.
— А это лагерные бараки, — объяснил мне Костя, крепкий и жилистый парень, понемногу начинающий спиваться.
— Тут заключенные жили… Зона… Здесь же и кладбище, где их хоронили. А рядом с кладбищем печи для обжига извести и кирпича…
Михаил, видимо более начитанный и серьезный добавил:
— Там наш известный писатель Савин похоронен… А после лагерей на этом место раскопки были — нашли стоянку первобытного человека… А завтра мы переплывем на моторе реку и я вам покажу каменные столбы — они, славно бы высеченные фигуры, имена у них есть: «глухарь», «вождь», «женщина», «рыба»… А все берега Усы здесь в халцедонах, агатах и в кусках окаменевшего дерева.
Выпили еще по одной и Михаил с неожиданной злостью произнес:
— А раньше до лагерей тут был хлеб, скот, песни… Лагерная жизнь свела все живое в округе… Заброшенные дома до сих пор еще стоят…
В разговор ни с того ни с чего вмешался запьяневший Костя:
— Спасибо Брежневу! При нем пять лет жил, как хотел, никогда трезвым на работу не выходил.
Михаил, лицо которого было освещено пламенем костра, гневно посмотрел на товарища.
— Костя! Это же твоя родина! Ты здесь родился, дурак ты, Костя!
А Костя, как бы не расслышав его, бормотал свое:
— А как я на лыжах бегал, когда водку не пил. В школу каждый день десять километров туда и десять обратно. Тренер называл меня лосенком…
— Дурак ты, Костя! Ну пойми, здесь же твоя родина! Михаил хотел сказать Косте что-то важное, но у него не получалось. Я, подозревая, что их спор продлится и в палатке, решил заснуть в спальнике под открытым небом, нашел сухое место под раскидистой елкой, наломал лапнику, залез в спальник, под который предусмотрительно подложил целлофановую подстилку.
К утру проснулся от шума елок — и что-то щеки покалывало. Открыл глаза — свистящие белые нити неслись вдоль черной стены леса. А мой спальник был покрыт снегом. И это в начале июня.
Все было, как в северных верлибрах Виктора Михайловича Василенко: