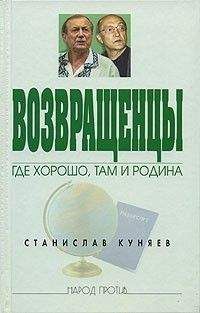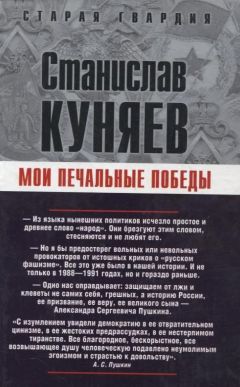Ознакомительная версия.
Да, эти шабесгои были при постах, при креслах, при лауреатских венках, заседали во всех президиумах. Но сущность такого рода высокопоставленных слуг еще в начале века очень точно определил Василий Васильевич Розанов:
С евреями ведя дела, чувствуешь, что все «идет по маслу», все стало «на масло», и идет «ходко» и «легко», в высшей степени «приятно». (…) Едва вы начали «тереться» около него, и он «маслится» около вас. И все было бы хорошо, если бы не замечали (если успели вовремя), что все «по маслу» течет к нему, дела, имущество, семейные связи, симпатии. И когда наконец вы хотите остаться «в себе» и «один», остаться «без масла», – вы видите, что все уже вобрало в себя масло, все унесло из вас и от вас, и вы в сущности высохшее, обеспложенное, ничего не имущее существо. Вы чувствуете себя бесталанным, обездушенным, одиноким и брошенным. С ужасом вы восстанавливаете связь с «маслом» и евреем/ – и он охотно дает вам ее: досасывая остальное из вас, – пока вы станете трупом. Этот кругооборот отношений всемирен и повторяется везде – в деревеньке, в единичной личной дружбе, в судьбе народов и стран. Еврей с а м не только бесталанен, но – ужасающе бесталанен: но взамен всех талантов имеет один большой хобот, маслянистый, приятный: сосать душу и дар из каждого своего соседа, из страны, города. Пустой – он пересасывает в себя полноту всего. Без воображения, без мифов, без политической истории, без всякого чувства природы, без космогонии в себе, в сущности – безъяичный, он присасывается «пустым мешком себя» к вашему бытию, восторгается им, ласкается к нему, искренне и чистосердечно восхищен «удивительными сокровищами в вас», которых сам действительно не имеет: и начиная всему этому «имитировать», всему этому «подражать» – все искажает «пустым мешком в себе», своею космогоническою безъяичностью и медленно и постоянно заменяет ваше добро пустыми пузырями, вашу поэзию – поддельною поэзиею, вашу философию – философической риторикой и пошлостью (…)
И так – везде.
И так – навечно.
Беляевых, чуприниных, ананьевых, людей бесталанных, избравших такой путь, – не жалко. Туда им и дорога. Жаль Виктора Астафьева, Михаила Ульянова, Андрея Битова, Владимира Соколова, Игоря Шкляревского, постепенно превращавшихся, говоря словами Розанова, в «высохшее, обеспложенное, ничего не имущее существо»… А еще хочется вспомнить слова Тараса Бульбы: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» …Через два месяца после передачи письма я был приглашен «на ковер» в апартаменты ЦК КПСС.
За час до визита мне позвонил мой знакомый из КГБ и попросил о свидании. Мы встретились минут за пятнадцать до того, как я вошел в ЦК, в сквере на Старой площади.
– Станислав Юрьевич, есть одна просьба. С вами будут сегодня разговаривать Беляев с Севруком. Нам интересно все, что они скажут. Не возьмете ли вы в свой портфель звукозаписывающее устройство? – Я внимательно поглядел в его честные голубые глаза и вежливо, но твердо отказался…
…В кабинете у Беляева кроме Севрука сидел Игорь Бугаев, секретарь Краснопресненского райкома партии, где я состоял на учете. За всю двух– или трехчасовую беседу он не произнес ни слова, время от времени делал какие-то записи. Я поглядел на него и понял: если беседа сложится для меня неблагоприятно – именно он будет исключать меня из партии.
Беляев сразу начал проработку:
– Письмо ваше получено. Мы имеем поручение от Секретариата ЦК поговорить с вами. Письмо, к сожалению, стало широко известным. Как вы могли, не дождавшись ответа от ЦК, распространять его? Это – нарушение партийной дисциплины!
Я был готов к такому началу и спокойно, но твердо ответил, что ничего я не распространял, что копии письма я передал лишь директорам издательств, на книги которых ссылался, и председателю Государственного Комитета России по печати.
Но Беляев, у которого были сжаты желваки, а лицо покрыто красными пятнами, пронзил меня своими холодными голубыми глазами архангелогородского опричника:
– На основе вашего письма сочинено еще одно, совершенно антипартийное и антисоветское, некоего Рязанова!
– Нет, не на основе моего письма, а по его поводу, – отпарировал я.
– Но как вы смели обвинить Центральный Комитет в бездействии?! – сорвался на фальцет Беляев. – Мы издали антисионистские книги Юрия Колесникова, Цезаря Солодаря, Льва Кулешова… В заграничных поездках против сионизма выступали Чаковский, Кожевников, Юлиан Семенов…
В разговор с какими-то бумажками в руках вступил второй, «добрый следователь» – Владимир Севрук:
– Стихотворение о народе по имени «И» Семена Липкина осуждено нами, редактор, пропустивший его, уволен с работы. То, что в букваре нет стихов Пушкина, а есть стихи Сапгира – это безобразие, но вот мы издали новый букварь, – Севрук показал его мне, – где есть стихи и Михалкова, и Пушкина. А что касается Гейне – то я против подобных его рассуждений… Да, вы правы в своем письме, у нас действительно нет русофильской партии, но нет и сионистской, как нет казахской националистической или узбекской…
Севрук запнулся, что-то рассматривая в своих записях.
Это позволило мне еще раз перебить его:
– «Литературная газета» Чаковского только и знает, что бороться с так называемыми пережитками русского национализма. А Вознесенский в это время, выступая в Америке, клевещет на Шолохова: «Один роман украл – не смог украсть другой». А его «непобедимо синий завет» – что, неужели непонятно, о чем идет речь? А то, что его, да Евтушенко, да Аксенова постоянно приглашают за рубеж, куда они то и дело ездят на народные деньги – разве это нормально?..
Альберт Беляев понял, что здесь надо согласиться со мной:
– Да, практика поездок по вызову порочна, но вам лишь кажется, что вы боретесь с сионизмом, на самом деле вы помогаете ему, провоцируя сионистов на агрессивные действия.
В это время раздался телефонный звонок. Беляев схватил трубку:
– Да, Михаил Васильевич, мы как раз беседуем с автором письма. Да, конечно, передадим, объясним, не беспокойтесь… – Он положил трубку: – Вот и Михаил Васильевич Зимянин просит передать вам: в Московской писательской организации столько евреев, что необходимо работать на консолидацию, а не на разъединение.
В разговор опять вступил вкрадчивый Севрук:
– Собрание сочинений Гейне, как вы помните, было издано в хрущевские гнилые времена… Тогда же издали 9-й, антисоветский том Бунина с его «Алешкой третьим» и книгу белогвардейца Шульгина выпустили, фильм о нем сделали, генерала Слащова провозгласили чуть ли не народным героем. А о Бунине – лютом антисоветчике – монографий тогда написали больше, чем о Фурманове!
…Я видел, что люди, с которыми я говорил, по должности своей, по партийно-государственному инстинкту, которому они обязаны были следовать, должны понимать меня. Но они явно не хотели этого, и двусмысленность положения крайне их раздражала… Роли их были распределены. Беляев в этой проработке, видимо, должен был давить на меня эмоционально: он повышал тон, пересыпал свою речь недвусмысленными угрозами, а роль Севрука была в том, чтобы доказать содержательную и даже фактическую несостоятельность моего письма.
– Вот вы обвиняете Багрицкого в том, что он отрешился от местечкового быта, от еврейского ешиботства, но они и были рассадником сионизма.
Я быстро нашелся:
– Да, вы правы, отказался, но ради чего? Ради еврейской власти над всей Россией!
– Багрицкий – революционный поэт! – сорвался на крик Беляев.
– Да, но поэма «Февраль» и революционная и сионистская одновременно.
– Опять двадцать пять! – уже завизжал Беляев, не привыкший, чтобы с ним спорили в стенах его кабинета.
Альберт Беляев был одним из самых подлых и мерзких партийных чиновников, которых я видел на своем веку. Хотя бы потому, что он был чистокровным русским северной закваски, со светлыми, чуть рыжеватыми волосами и голубыми глазами, с послужным списком, в котором значилась служба на Северном флоте, с книжонкой рассказов об этой службе, за которую его приняли в Союз писателей… А душа у него была карьеристская и насквозь лакейская.
Помню, как однажды я встретил его в коридорах Союза писателей на Поварской. Мы знали друг друга, и я решил обратиться к нему с какой-то незначительной просьбой.
– Альберт Андреевич! Можно вас на минуту?
Беляев зло посмотрел на меня и на ходу бросил:
– У меня нет времени!
– Да я по поводу своей статьи в «Литературной газете»…
Беляев вдруг перешел на мелкий бег, его ножки в начищенных ботинках замелькали над ковровой дорожкой, и он почти завизжал в истерике:
– Вы что, не видите, что я спешу? Василий Филимонович Шауро меня в кабинете Маркова ждет! – И столько было в лице этого морячка страха перед начальственным гневом, так исказилось его лицо от моей невинной попытки задержать его на минуту, такое отсутствие собственного достоинства продемонстрировала вся его суетливая, мчащаяся по коридору фигура, что я оторопел…
Ознакомительная версия.