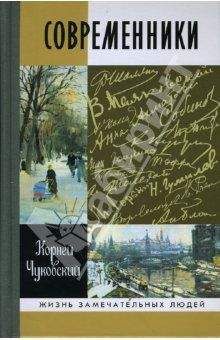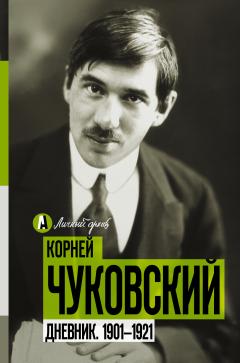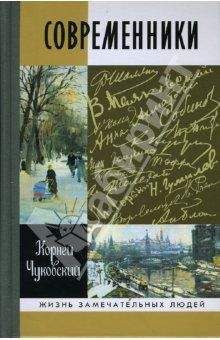Он был уже общепризнанным классиком, написал «Архиерея» и «Невесту», но даже с близкими не говорил о своих литературных работах и замыслах. «Дуся моя,— писал он жене,— мне до такой степени надоело все это, что кажется, что и тебе и всем это уже надоело, и что ты только из деликатности говоришь об этом...»
«Я тебе ничего не сообщаю про свои рассказы, которые пишу, потому что ничего нет ни нового, ни интересного. Напишешь, прочтешь и увидишь, что это уже было, что это уже старо, старо».
И вечная его забота всегда и везде: как бы не обидеть другого своею славою, своим превосходством. Был у него знакомый писатель Владимир Алексеевич Тихонов, человек, не лишенный способностей, но Чехов и он — это Эльбрус и пригорок, и вот в каком тоне Чехов зовет его погостить:
«Драгоценный Владимир Алексеевич!.. Я не приглашаю Вас к себе в деревню, так как это бесполезно. Вы гордец и надменны и высокомерны, как Навуходоносор. Если бы Вас пригласил принц Кобургский или хедив Египетский, то Вы поехали бы, приглашение же от незначительного русского литератора вызывает у Вас презрительную улыбку. Жаль. Гордость мешает Вам ехать ко мне, а между тем, какая у меня сметана, какие агнцы, какие огурцы будут в мае, какая редиска!»
Чтобы как-нибудь не обидеть «незначительного русского литератора» высокомерным отношением в нему, Чехов называет незначительным себя самого и вообще держится с Тихоновым до такой степени на равной ноге, словно и сам он — не Чехов, а Тихонов.
У него была одна манера: говоря с каким-нибудь третьестепенным писателем, употреблять выражение: «мы с вами», чтобы тот, не дай бог, не подумал, будто Чехов считает себя выше его. «Когда Суворин видит плохую пьесу,— писал он то-
45
му же Тихонову, то он ненавидит автора, а мы с Вами только раздражаемся и ноем; из сего я заключаю, что Суворин годится в судьи и в гончие, а нас (меня, Вас, Щеглова и проч.) природа сработала так, что мы годимся быть только подсудимыми и зайцами».
И вскоре после того, как Вагнер назвал его слоном среди беллетристов, Чехов написал Тихонову такое письмо:
«Я, вопреки Вагнеру, верую в то, что каждый из нас в отдельности не будет ни «слоном среди нас» и ни каким-либо другим зверем и что мы можем взять усилиями целого поколения, не иначе. Всех нас будут звать не Чехов, не Тихонов, не Короленко, не Щеглов, не Баранцевич, не Бежецкий, а «восьмидесятые годы» или «конец XIX столетия». Некоторым образом артель».
Эта чрезмерная деликатность не раз побуждала его просить у людей прощения даже за то, в чем и не могло быть обиды.
«Как-то в Париже за обедом,— писал он одному из своих богатых приятелей,— Вы, уговаривая меня остаться в Париже, предложили мне взаймы денег, я отказался, и мне показалось, что этот мой отказ огорчил и рассердил Вас, и мне показалось, что, когда мы расставались, от Вас веяло холодом. Быть может, я и ошибаюсь. Но если я прав, то уверяю Вас, голубчик, честным словом, что отказался я не потому, что мне не хотелось одолжаться у Вас...» и т. д. и т. д. и т. д.
Чехов был, кажется, единственный человек, когда-либо просивший у друзей извинения за то, что не берет у них денег!
Такую же сверхделикатность он проявил и по отношению к своим должникам, которые, взяв у него деньги «на несколько дней», не спешили отдать их в срок. Однажды дело дошло до того, что, стремясь избавить своего должника от всякого чувства неловкости, он попытался уверить его, будто он сам, Чехов, такой же неаккуратный должник.
«Пожалуйста,— писал он, например, беллетристу Ежову,— не считайте меня лютым кредитором. Те сто рублей, которые вы мне должны, я сам должен и не думаю заплатить их скоро. Когда уплачу их, тогда и с вас потребую, а пока не извольте меня тревожить и напоминать мне о своих долгах».
И когда в апреле 1894 года он вдруг у себя в усадьбе почувствовал, что падает в обморок, ему пришла мысль, которая при таких обстоятельствах, кажется, не приходила еще никому:
«Как-то неловко падать и умирать при чужих».
46
Даже умереть он хотел деликатно, чтобы не причинить другим никакого конфуза.
И так высоко ценил деликатность в других.
«Хорошее воспитание,— писал он,— не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой».
VIНо едва ли кто-нибудь из восхвалителей чеховской нежности, деликатности, скромности подметил и осознал до конца, что часто здесь наряду с его природными качествами сказывалось то, что он сам называл «дрессировкой».
«Надо себя дрессировать»,— писал он перед своим героическим путешествием на Сахалин.
«Дрессировать, воспитывать себя, предъявлять к себе почти непосильные моральные требования и строго следить за тем, чтобы они были выполнены,— здесь основное содержание его жизни, и эту роль он любил больше всего — роль собственного своего воспитателя. Только этим путем он и добыл нравственную свою красоту — путем упорного труда над собою. До нас случайно дошло его собственное признание в том, что одну из лучших черт своей личности он воспитал в себе сам. Когда его жена написала ему, что у него уступчивый, мягкий характер, он ответил ей (в письме 1903 года):
«Должен сказать тебе, что от природы характер у меня резкий, я вспыльчив и проч. и проч., но я привык сдерживать себя, ибо распускать себя порядочному человеку не подобает. В прежнее время я выделывал черт знает что».
«Я, каюсь, слишком нервен с семьей. Я вообще нервен. Груб часто, несправедлив»,— признавался он брату в юности.
Тем-то и поучительна биография Чехова, что этот сильный, волевой человек, смолоду выделывавший «черт знает что», мог подавить свою вспыльчивость, выбросить из души все мелочное и пошлое и выработать в себе такую деликатность и мягкость, какими не обладал ни один из писателей его поколения.
И его легендарная скромность, его постоянное стремление к безвестности, к освобождению от славы есть тоже не только инстинкт, но и результат «дрессировки».
«Я человек честолюбивый по самые уши»,— признавался он в одном интимном письме. «Я только прикидывался равнодушным человеком, но волновался ужасно»,— писал он после петербургской постановки «Иванова». Уже из того, как воспринял он в 1896 году знаменитый провал своей «Чайки», видно, как много значил для него литературный успех. «К ус-
47
пеху своих произведений он был очень чувствителен»,— свидетельствует в чеховском некрологе Суворин. «Чехов очень самолюбив,— записал Суворин у себя в дневнике,— и когда я высказывал ему свои впечатления о причинах провала «Чайки», он выслушивал их нетерпеливо. Пережить этот неуспех без глубокого волнения он не мог».
Так что, когда Чехов гнал от себя свою славу, он гнал то, что манило его всегда. Да и было бы противоестественно, если бы человек такого жизнелюбия, такой феноменальной общительности оставался равнодушен к приманкам и очарованиям славы. Вспомним, что в его ранних письмах еще попадаются строки, где он не по-чеховски хвалится своими успехами, а порою даже, опять-таки не по-чеховски, хлопочет об упрочении своей литературной известности1.
Вспомним, как страстно накинулся он в конце своей жизни на злополучного Николая Эфроса только за то, что этот давнишний его почитатель, друг его семьи, энтузиаст и летописец Художественного театра, пересказывая в газете содержание «Вишневого сада», допустил в своем пересказе мелкие (и вполне простительные) отклонения от текста. «У меня такое чувство,— писал Чехов,— точно меня помоями опоили и облили». «Скажи Эфросу, что я с ним больше не знаком». «Что это за вредное животное» и т. д.
Это не могло бы случиться, если бы Чехов в ту пору не был так мучительно болен. Но та узда, в которой он держал себя всю свою жизнь, тогда из-за его болезни ослабла, и благодаря этому нам стало еще более ясно, как суров был во все прочее время его неусыпный контроль над собой.
Два писателя, имевшие возможность наблюдать его ближе и дольше других, Леонтьев-Щеглов и Потапенко, оба отметили в своих мемуарах, что к Чехову не с неба свалилось его благородство.
«В тот первый период жизнерадостной юности и неугомонных успехов,— пишет Леонтьев-Щеглов,— Чехов обнаруживал по временам досадные черты какой-то студенческой легкомысленной заносчивости и даже, пожалуй, грубоватости. Но уже в третий его приезд в Петербург этих резких диссонансов как не бывало».
По словам Потапенко, во многих воспоминаниях Чехов изображается «существом, как бы лишенным плоти и крови, стоящим вне жизни праведником, отрешившимся от всех слабостей человеческих — без страстей, без заблуждений, без
____________________
1 См., например, его письмо к М. Г. Чехову. Поли. собр. соч. и писем, т. 13, с. 205 и след.
48
ошибок. Нет, Чехов не был ни ангелом, ни праведником», а его привлекательные душевные качества явились, по наблюдению Потапенко, «результатом мучительной внутренней борьбы, трудно доставшимися ему трофеями».