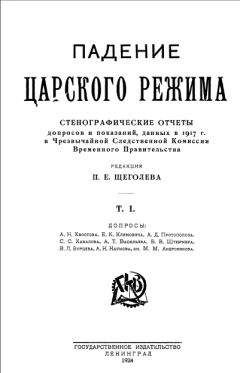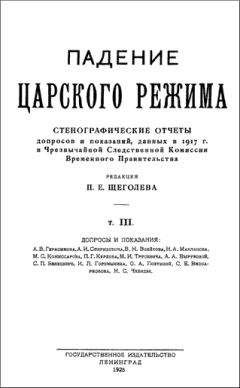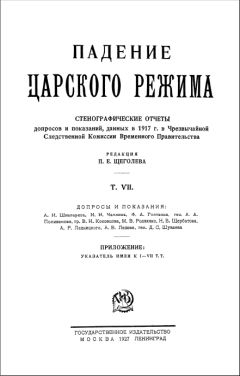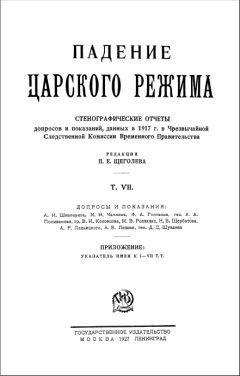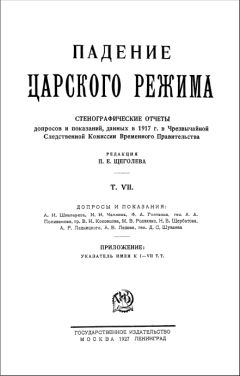Наумов. – Государь всегда соглашался. Я никогда не уходил от государя неудовлетворенным… Но, в результате, – получалось чрезвычайное разочарование с моей стороны!… Первое мое разочарование было по поводу первого же моего выступления в Совете Министров относительно использования немецких земель. Образовалось меньшинство из нескольких лиц: Сазонов, Игнатьев, кажется, Трепов – и я. Было предложено два способа ликвидации немецкого землевладения: или в такой форме, как ныне установлено, – путем деятельности крестьянских банков, или же признать ликвидацию в смысле реквизиции немецкого землевладения. Вот к последнему решению я и примкнул. Я считал, что если отобрать немецкое землевладение, это именно мера временного военного характера, при чем возможно было бы использовать эти земли быстро, с точки зрения учета посевной площади и утилизации ее… Но большинство высказалось против. Мы заявили о своем несогласии… В этом отношении порядок был таков: если заявляется несогласие, то меньшинство может самостоятельно государю докладывать свое по этому поводу мнение. В виду этого я высказывал свои соображения государю, и он со мною согласился. При чем министры Барк и Игнатьев, бывшие у государя после меня, подтвердили, что государь признал нашу точку зрения совершенно правильной. А через неделю он сделал резолюцию: «Согласен с большинством». Это на меня произвело тяжелое впечатление. Если бы государь сказал: «Я подумаю», но он сказал: «Я совершенно и вполне согласен», а потом, через неделю, – изменил свое решение… Это очень характерный эпизод, который обрисовывает его безволье…
Смиттен. – Вы не можете сказать, какие именно, влияния действовали на бывшего государя, по поводу вашего доклада о немецком землевладении?
Наумов. – Я думаю, что так было доложено Горемыкиным: он был представитель большинства. Затем, на 26-е января у меня записано так: «Смена государственного контролера. Вместо Харитонова – Покровский: прекрасный человек!… 2½ часа – Совет Министров. Журнал заготовлен: об ассигновании, по высочайшему повелению, в распоряжение Штюрмера и Хвостова (у меня так записано) 5 миллионов рублей в безотчетное распоряжение. Возмущение общее! Вынужден был дать подпись. Решение бесповоротное – протестовать – в пятницу подать заявление… Разговор по этому поводу с Покровским, который зашел прямо из Мариинского дворца в мой кабинет. На него произвело подавляющее впечатление. Он в первый раз попал в заседание Совета Министров. Мы решили вместе подумать…» Это было 26 января 1916 года. Потом дальше занесено у меня в книжке следующее: «Решение уйти – бесповоротно». Меня ужас просто взял! Я работал в верховной комиссии, был участником такой комиссии, которая обследовала целый ряд дел, и потом мне пришлось самому попасть в состав Совета Министров и быть невольным участником, с моей точки зрения, – полного беззакония!… Но затем, дальнейшее: 29 января переговоры по телефону были с Покровским, относительно этих 5 миллионов. Покровский мне сообщил, что Штюрмер решил сам заявить о контроле 5 миллионов. Затем было заседание Совета Министров 29 января, Штюрмер действительно заявил в этот день о высочайшем повелении подчинить пятимиллионный расход государственному контролю…
Иванов. – Значит, эта сумма была выдана.
Наумов. – Нет. Он затем совсем отказался… 27-го у меня был разговор с князем Васильчиковым – членом Государственной Думы, который ко мне зашел в кабинет. Я к нему всегда относился с большой симпатией… Я ему сказал все откровенно, по поводу составления журнала о 5 миллионах. Я был возмущен и был рад, когда в Государственной Думе после этого сделано было всенародное заявление о 5 миллионах… По этому поводу, в Совете Министров было заявлено о том, что как это странно, что некоторые вопросы, которые носят чисто конфиденциальный характер, делаются достоянием широких масс…
Председатель. – Это не Штюрмер сделал такое заявление?
Наумов. – Я не помню… Позвольте мне докончить об этих 5 миллионах. 1-го февраля в одном частном доме я встретился с В.Н. Коковцовым. Он говорил об этих пяти миллионах. Видимо очень сочувственно отнесся к нашему с Покровским поведению. Он хорошо всегда относился к Покровскому. Я лично не знал, на что, собственно, требовались эти огромные суммы, никто не был предупрежден… Может быть, некоторые и знали, но я не знал. Граф Коковцов мне сообщил, что таковая сумма предназначалась на предвыборную агитацию. При чем вот что у меня записано: «Горемыкин сначала Хвостову отказал, а теперь это прошло». Далее у меня, отмечено: «5 февраля было заседание Совета Министров, где требовался некоторый аванс от Совета Министров царицынскому заводу». Я тогда заявил, что как бывший член верховной комиссии, обследовавшей специально дело царицынского завода, совершенно определенно протестую против каких-либо авансов, так как я познакомился недавно детально с положением царицынского завода. Против этого было видимое, как у меня записано, неудовольствие со стороны адмирала Муравьева…
Председатель. – Было отказано в авансе?
Наумов. – Да, было отказано. Затем, по поводу царицынского завода было в Совете Министров еще одно заседание (это было незадолго до моего ухода) – относительно передачи в казну или вообще приобретения царицынского завода… Было сделано предложение, чтобы комиссия, которая будет принимать, была бы сосредоточена в морском ведомстве. Но по настоянию моему и тех, которые поддержали меня, решили избрать комиссию из состава всех заинтересованных ведомств с участием Государственного Контроля… Затем, в дальнейших моих кратких записках остановлюсь на более интересных для дела… Так, после моего думского выступления, – 18 февраля 1916 года, – отношение ко мне со стороны многих было очень хорошее: приветствовали меня; а с другой стороны – отношение некоторых лиц, в том числе и некоторых членов кабинета, – было тайно или явно недружелюбное… Далее, запись 3 марта: «У меня в министерстве был с визитом Белецкий, представившийся мне, в качестве назначенного иркутским генерал-губернатором…» Человек этот безусловно был осведомлен обо всем, что происходило в тех верхах, где, так сказать, высшая политика решалась. Не могу удостоверить, происходило ли это от близости его к темным силам, а может быть, происходило от прежнего положения директора департамента полиции, – в близких отношениях я с ним не был, – особенно в период столичной службы… Явившись ко мне в кабинет, Белецкий стал желчно рассказывать о «Хвостовской неделе…» (Помните: когда Хвостов являлся в качестве члена Государственной Думы, сидел среди членов, оставаясь министром? Затем, предположение о покушении Хвостова на Распутина, – дело, которому не дали, однако, ходу…) Белецкий заявил: «Хвостов будет отставлен, министром внутренних дел будет назначен Штюрмер». Затем он говорил о последнем указе, о влиянии Распутина на Штюрмера, про их почти ежедневные телефонные переговоры… Я говорю Белецкому: «Вы, Степан Петрович, откуда все это знаете?» – «Уж знаю!…» Дальше у меня отмечено так: «Был Кривошеин. Он заявляет о моих успехах и о том, что у меня являются горячие поклонники; но на ряду с этим, масса врагов». Думается, что он разумел под ними некоторых членов кабинета: это – материал, если хотите, который касается условий моего ухода. Тут, помимо разногласий в кабинете, является некоторое отношение, чисто субъективного свойства, со стороны некоторых из его членов… «17 марта был у меня А.А. Поливанов. Печальный рассказ об условиях его отставки. Говорит, что его доконали…»
Председатель. – Может быть, вы остановитесь на этом: что вам по этому поводу приходит на память?
Наумов. – Мне вспоминается, что когда А.А. Поливанов пришел ко мне 17 марта, он был очень расстроен. (Мы с ним были в самых добрых отношениях.) Он совершенно откровенно говорил, что он прямо был подавлен условиями своей отставки. Вот его слова относительно условий отставки: «Отставили даже без высочайшей благодарности за старые заслуги…» Но он рассказывал, что у него масса сочувствующих со всех сторон. Заезд был японского посла, который выразил ему сожаление от имени всей нации. Догадки о причине тут у меня указаны: «Распутин, плюс – братолюбовская история, где замешаны великие князья Михаил Александрович и Борис Владимирович…» Он указывал на то, что, очевидно, братолюбовская история была поддержана сильным временщиком Распутиным…
Председатель. – Александр Николаевич, может быть, вы, в нескольких словах, нам воспроизведете эту историю?
Наумов. – Я боюсь, что не удовлетворю вас: я думаю, что А.А. Поливанов, если вы его допросите, скажет вам более подробно. Смысл был такой: Братолюбов изобрел горючую жидкость, воспламяняющуюся. Он долгое время все хотел, чтобы военно-технический комитет сделал испытание, но это никак ему не удавалось. В конце концов, как – я не знаю (может быть, тут Распутин играл роль), но он заручился сильными мира сего… Очевидно, и великие князья тут играли роль… Я помню, что был ряд высочайших повелений по этому поводу, – и затем предоставлены были в его распоряжение масса денег и право чуть ли не реквизиции домов для осуществления этого предприятия… Была дана огромная власть! Это настолько испугало Военное Министерство, что им, помню, была составлена особая записка. Состоялось даже заседание Совета Министров частного характера, специально для того, чтобы заслушать доклад генерала Лукомского. Дело это было, действительно, сенсационное – и, по существу своему – более чем странное! По этому докладу соображения были доложены государю А.А. Поливановым. Государь был в большом смущении: ему-де докладывали совершенно иначе… В каком положении это дело теперь, – я не знаю… Перехожу к цитированию дальнейших моих заметок. 20 марта: «Начались первые слухи о моем уходе…» Как раз князь Львов был у меня, и мы беседовали на злободневные темы. Беседовали мы откровенно: я обещал мое сотрудничество, если они не хотят[*] правительство заменить… Затем было «заседание Совета Министров по поводу парижской конференции. Моя резкая защита сельского хозяйства и упреки Совету Министров в том, что интересы сельского хозяйства были совершенно им игнорированы…» Вообще, в этом отношении, мне приходилось очень часто копья ломать и кровь портить, потому что, действительно, наше сельско-хозяйственное дело было в совершенном загоне у Совета Министров, и мне всегда приходилось с большим трудом доказывать, что эти интересы должны быть поставлены, с моей точки зрения, во главу угла! В тот же день, 20 марта, – «аудиенция у Штюрмера, после заседания по поводу парижской конференции: мое заявление о решении уйти из министерства, его протест и просьба остаться…» Тогда это было в таком положении, что я еще не окончательно решил, потому что условия были такие, что я еще мог более или менее выдерживать положение вещей… 21 марта было мое выступление в закрытом заседании Государственного Совета. После этого были отклики моего выступления и недовольство им. Недовольство, которое не высказывалось, но проглядывало в отношении ко мне Штюрмера, потому что то доброе, даже ласковое отношение, которое я встретил в самом начале, оно исчезло… Между прочим, в записной книжке у меня отмечено мое тяжелое положение в связи с крайне бесцеремонным, с моей точки зрения, отношением Совета Министров, в смысле отобрания в моем отсутствии, помимо меня, всего того количества военнопленных, которое я собирал для сельско-хозяйственной промышленности. Меня это глубоко возмущало!… Я, при самом вступлении в министерство, задался целью образовать фонд для сельского хозяйства, а когда мне, в конце концов, это удалось, – в мое отсутствие, в то время, когда я был в Государственной Думе, – 25 марта, Советом Министром 50.000 военнопленных из этого фонда были взяты!… Это постановление Совета, по докладу кн. Шаховского, состоялось в марте, когда на юге начались работы… Тут я написал письмо Штюрмеру. Приходилось итти на очень резкие объяснения. У меня записано: «29 марта в Совете Министров были заслушаны претензии кн. Шаховского относительно военнопленных, Досадно, что члены Совета Министров не отдают себе отчета о сельском хозяйстве. Обидно, что много было сделано в течение многих месяцев для образования фонда для сельско-хозяйственных работ, и отбирают в острый момент начала сева…» В это время у меня был по этому поводу с Советом Министром целый ряд конфликтов. 31 марта в Совете было много говорено относительно неподачи топлива мельницам и сахарным заводам, что ставило в чрезвычайно затруднительное положение и мое министерство и всю работу продовольствия… Под этим числом у меня отмечено следующее: «Совет Министров из себя представляет состав лиц, про которых нельзя сказать, чтобы все они жили дружно. Кн. Шаховской вечно нервничает; Штюрмер попрежнему сонлив, сух. Военный министр в это время прикрывает шпагатный завод в Орле. Удалось отстоять. Штаб верховного командования требует одного миллиона работников, требование предъявлено, главным образом, ко мне, министру земледелия…» Вот, вы можете видеть, какое отношение к министру земледелия! Ясное дело, как у меня записано: невозможно при этих условиях работать!… 15 марта был парадный обед у председателя Совета Министров, после коего, совершенно для меня неожиданно, состоялось целое совещание по поводу продовольствия… Штюрмер, видимо, хотел при всех поставить меня в затруднительное положение, потому что, совершенно не предупредив меня, заявил: «Вот Александр Николаевич, мы пользуемся тем, что вы здесь в присутствии некоторых членов Государственой Думы и Государственного Совета: не сообщите ли вы нам о том, в каком положении находится продовольствие?…» – Я говорю: «Я всегда готов отвечать по этому поводу… Но странно, что вы меня ставите в такое положение: при совершенно неожиданной обстановке, сложный и злободневный вопрос освещать заставляете…». Тогда В.Н. Коковцов задал мне целый ряд вопросов. – Я стал отвечать и почти перешел уже к форме серьезного доклада… 16 марта началась по отношению ко мне тяжелая газетная травля, по поводу пресловутого гнилого мяса, которое оказалось в холодильниках на Черниговской улице… У меня был целый ряд заготовленных опровержений, но эти опровержения не помещались… Тогда все дело печатных заявлений в газеты было сконцентрировано в руках секретаря Штюрмера – Гурлянда… У меня, между прочим, в записной книжке отмечено: «Есть предположение, что Гурлянд, всесильный секретарь Штюрмера, начал поход против меня…» По этому поводу у меня был резкий разговор со Штюрмером, потому что, несомненно, Гурлянд, который, видимо, стоял в его глазах очень высоко, был всесильным, и, пользуясь своим влиянием на Штюрмера, забрал в свои руки всю часть, касающуюся печати… При чем мне жаловались мои сотрудники, что если мы хотим что-нибудь печатать, то нужно непременно через Гурлянда. И, действительно, казалось странным, что такая огромная машина, как Министерство Земледелия и Министерство Снабжения, непременно должна только через Гурлянда печатать свои материалы! Я протестовал против этого. Гурлянд явился ко мне и высказал желание, чтобы я его выслушал. Но тем не менее все составленные нами опровержения продолжали долгое время не печататься. Я был поставлен в очень тяжелое положение…