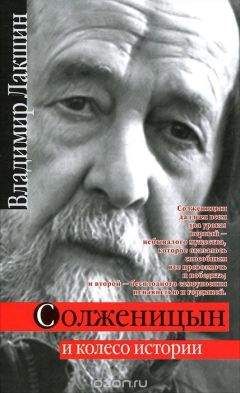Все это так, и, однако, не только различия в объективном положении, но в самих внутренних побуждениях, моральных стимулах людей делают достаточно четкой границу, отделяющую «работяг» от «придурков».
С этой точки зрения полезно взглянуть и на Цезаря Марковича, за которого как будто слегка обиделся И. Чичеров. В самом деле, мягкий, интеллигентный человек, кинорежиссер, трубку курит, рассуждает об Эйзенштейне – к чему тут ирония? Справедливость требует заметить, что автор не говорит о Цезаре лично ничего худого, есть даже что-то располагающее в этом вежливом, незлобивом человеке, так занятом воспоминаниями и интересами своей прежней профессии. Жаль, конечно, его, как жаль и других безвинно пострадавших, оторванных от дома, от любимого дела.
Но есть одно, чего не обойдешь. Только что все шли в одной колонне, равные друг другу, и Цезарь угощал Шухова недокурком от сигареты, но вот показались ворота зоны, а потом и сам объект, и Цезарь отделяется от общего строя, не спеша идет к конторе. Можно рассудить и так: кому какая судьба, ведь он человек образованный, интеллигентный. Но кавторанг тоже человек образованный, а работает с бригадой на объекте, таскает носилки, «как мерин добрый», и на судьбу не жалуется, хоть валится от усталости к концу дня. Причина столь приятных привилегий Цезаря проста. Два раза в месяц он получает из дому богатые посылки, «всем сунул, кому надо», получил освобождение от общих работ, устроился помощником нормировщика в контору. Иван Денисович не слишком осуждает за это Цезаря, хотя сам он, как помним, «давать на лапу» не умел и в лагере не научился. Великодушно относясь к людским слабостям, Шухов не может винить Цезаря и за то, что, «подмазав» кому-то, тот получил право носить меховую шапку. В этой меховой шапке, с трубкой во рту Цезарь выглядит, должно быть, совсем не по-лагерному импозантно. И хоть ничего противоестественного нет в том, что люди цепляются за всякую возможность, чтобы облегчить свою участь, но Шухову как-то ближе кавторанг, который работает с ним «на общих», и мы тоже чувствуем за Буйновским это преимущество непререкаемой нравственной силы.
Изящный эстетизм Цезаря, его интеллигентные манеры, то, как он курит трубку, «чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то», – все это находится в резком противоречии с низкой прозой тех усилий, какими добываются в лагере относительное благополучие и покой, дающие выход приятным воспоминаниям и милым сердцу разговорам.
Цезарь как должное принимает услуги Шухова, за которые иной раз по неписаному условию отблагодарит его своей пайкой. Во время обеда Иван Денисович спешит с миской в контору. «Цезарь сам никогда не унижался ходить в столовую ни здесь, ни в лагере», – как бы между прочим замечает автор. А едва вернувшись с работ в лагерь, Шухов несется занимать Цезарю очередь в посылочной, сам же Цезарь, «себя не роняя, размеренно» идет в другую сторону, чтобы сменить Ивана Денисовича, когда дело приблизится к выдаче.
Цезарь Маркович смотрит на Шухова несколько по-барски, замечает его существование только тогда, когда он оказывается для чего-то нужен ему. Духовная жизнь Ивана Денисовича его вовсе не интересует по ее видимой примитивности. То, что Шухов не способен обсуждать с ним мастерство монтажных стыков или крупный план у Эйзенштейна, уже ставит его в глазах Цезаря неизмеримо ниже того круга людей, с которыми молодой кинорежиссер привык считаться, – людей интеллигентных, или, говоря словами наших критиков, «остро думающих», «осведомленных». Повстречай он Ивана Денисовича на свободе – и ему не о чем будет сказать с ним двух слов.
Цезарь искренне увлечен кинематографом, но в том, как он говорит о своем кумире Эйзенштейне, в самом способе разговора есть что-то от слишком знакомых, ходовых мнений, с принудительностью моды господствующих по временам в узком кружке людей, связанных с искусством, где иные имена звучат заклинанием и паролем. И. Чичеров заступился перед Солженицыным за тех интеллигентов, которые «все еще продолжают в лагере спорить об Эйзенштейне, о Мейерхольде…» О Мейерхольде в повести не сказано ни слова, но психологически понятно, почему он мог залететь здесь к Чичерову: Мейерхольд так Мейерхольд – не все ли равно, если это лишь знак особо утонченных духовных интересов, своего рода свидетельство об интеллигентности.
В искусстве Цезаря больше всего интересует, как это сделано, он привык дорожить формой, приемом, самой атмосферой творчества. Цель искусства, то, пробуждает ли оно в людях добрые чувства, кажется ему делом второстепенным. В этом суть его спора с жилистым стариком каторжанином в конторе. Развалившись у стола и покуривая трубку, Цезарь благодушествует.
«– Нет, батенька, – мягко этак, попуская, говорит Цезарь, – объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. “Иоанн Грозный” – разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!
– Кривлянье! – ложку у рта задержа, сердится Х-123. – Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея – оправдание единоличной тирании».
Спор разгорается сильнее, и старик, возмущенный ссылкой Цезаря на то, что иной трактовки «не пропустили бы», гневно возражает: «Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!».
Почти в каждой статье о повести Солженицына приведена эта действительно замечательная сцена, где старик каторжанин, побивая слабые аргументы Цезаря, произносит слова, исполненные высокого гражданского достоинства. Но мало кто из критиков заметил присутствие в этой сцене третьего лица – молчаливо стоящего с миской в руках, принесенной в контору, Ивана Денисовича. Шухов терпеливо ждет, потом откашливается, желая обратить на себя внимание, и, наконец, Цезарь замечает его. Но как замечает!
«Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху, – и за свое:
– Но слушайте, искусство – это не что, а как».
Способ, каким Цезарь принимает от Шухова кашу, пожалуй, больше развенчивает его, чем поражение в споре об искусстве.
Шухов не торопится уходить из уютной конторы, где так приятно стоять у раскаленной докрасна печки, он еще надеется, что Цезарь угостит его куревом. «Но Цезарь, – говорит Солженицын, – совсем об нем не помнил, что он тут, за спиной. И Шухов, поворотясь, ушел тихо». Становится горько-горько за Ивана Денисовича после этих слов, и возникает невольная неприязнь к такому вежливому и симпатичному Цезарю Марковичу. Он может еще позволить себе роскошь поспорить вволю о пляске опричников с личиной, а Шухову пора на объект, к своим.
Я не сомневаюсь в законности тех интересов, которые занимают Цезаря. Я мог бы даже посочувствовать его одержимости мастерством Эйзенштейна, как всякому живому человеческому пристрастию. Но я признаю большую, так сказать, существенность за тем, что волнует Ивана Денисовича, что составляет его заботы. Как не подумать о том, что Цезарю Марковичу не пришлось бы рассуждать в конторе, в тепле, за миской с кашей, которую принес ему Шухов, о сцене в соборе, если бы целый день в здании ТЭЦ не работала бы бригада, проценты выработки которой он, по счастливому своему положению, определен подсчитывать.
В Цезаре нет хищного своекорыстия, его наивный эгоизм чаще вызывает у нас улыбку, чем досаду и негодование. Но, ища себе долю полегче, Цезарь приобрел своего рода глухоту к тому, что волнует окружающих его людей. Попытка остаться в кругу привычных «московских» интересов есть способ самозащиты против тяжких впечатлений лагеря. Но эти же разговоры об Эйзенштейне, о кино как бы отстраняют его от таких людей, как Шухов, изолируют от них и лишают ответственности перед ними. «Высшие» интересы искусства не сопрягаются с «низшими», прозаическими интересами жизни, которыми поневоле заняты Иван Денисович и его товарищи. И если Шухов твердо верит в то, что жизнь не есть озорство, то этой веры не хватает, похоже, Цезарю Марковичу, как не хватало ее «красилям», основавшим новый «веселый» промысел в родной деревне Ивана Денисовича.
В самом главном, в отношении к жизни и труду, что-то неожиданно сближает утонченного Цезаря Марковича с красилями из деревни Темгенево. И точно так же вопреки ожиданию у интеллигентного, идейного человека Буйновского находится больше общего с Иваном Денисовичем, чем с Цезарем, несмотря на то что тот в бригаде «одного кавторанга и придерживается», видя лишь в нем достойную себе компанию. Одно это начисто отвергает мысль о каком-либо противопоставлении народа и интеллигенции у Солженицына. Принцип деления тут другой.
Кавторанг не «придуривается», не ищет, как обойти беду легче, миновать жребий работяг. И хоть туго приходится ему без привычки к физической работе, он безропотно выполняет приходящуюся на его долю часть общего труда бригады. «Осунулся крепко кавторанг за последний месяц, а упряжку тянет» – одно это вызывает у Ивана Денисовича молчаливое уважение к нему и чувство внутреннего родства, какое он не может испытывать к Цезарю.