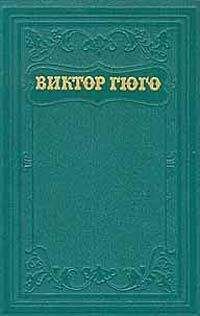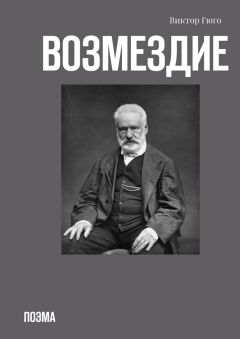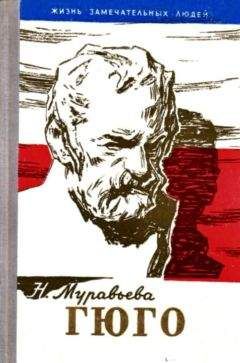Двинулись в путь.
Венсенские стрелки, шедшие в два ряда по обе стороны колонны, поглядывали на них с ненавистью. Генерал Удино говорил вполголоса: «Эти невзрачные пехотинцы просто страшны, во время осады Рима они бросались на приступ как бешеные; эти мальчишки — настоящие черти». Офицеры избегали смотреть на депутатов. При выходе из мэрии Куален, поравнявшись с одним из офицеров, воскликнул: «Какой позор для мундира!» Офицер ответил гневными словами и вызвал Куалена на дуэль. Через несколько минут он на ходу приблизился к Куалену и сказал ему: «Послушайте, сударь, я подумал и теперь вижу, что я неправ».
Шли медленно. В нескольких шагах от мэрии навстречу процессии попался Шегаре. Депутаты закричали ему: «Идите сюда». Он развел руками и пожал плечами, словно говоря: «Да зачем же! Раз меня не взяли!..» — и хотел было пройти мимо. Однако ему стало стыдно, и он все-таки вошел в ряды. Его имя значится в списке, составленном на перекличке в казарме.
Потом встретили де Лесперю; ему закричали: «Лесперю! Лесперю!» — «Я с вами» — ответил он. Солдаты отталкивали его. Он схватился за приклады и прорвался в колонну.
Когда процессия переходила какую-то улицу, в одном доме вдруг открылось окно. В нем показалась женщина с ребенком, ребенок узнал среди арестованных своего отца и стал звать его, протягивая к нему ручонки; мать, стоя позади ребенка, плакала.
Сначала хотели вести все Собрание прямо в тюрьму Мазас; но министерство внутренних дел распорядилось иначе. Такой длинный переход пешком, среди бела дня, по людным улицам, сочли опасным: так можно было вызвать возмущение. Поблизости были казармы Орсе. Их сделали временной тюрьмой.
Один из командиров нагло показывал шпагой прохожим на арестованных депутатов и громко говорил: «Это белые! Приказано обращаться с ними поделикатнее. Теперь очередь за господами красными депутатами. Пусть они поберегутся!»
Повсюду, где проходило шествие, с тротуаров, из дверей, из окон жители кричали: «Да здравствует Национальное собрание!» Заметив в колонне депутатов левой, люди кричали: «Да здравствует республика! Да здравствует конституция! Да здравствует закон!» Магазины были открыты, по улицам ходил народ. Некоторые говорили: «Подождем до вечера, это еще не конец».
Какой-то офицер главного штаба в парадной форме, верхом на лошади, поравнявшись с процессией, заметил де Ватимениля и подъехал, чтобы поздороваться с ним. На улице Бон, когда колонна проходила перед редакцией «Демократи пасифик», кучка людей закричала: «Долой изменника из Елисейского дворца!»
На набережной Орсе крики стали еще громче. Там толпился народ. По обеим сторонам набережной солдаты линейных полков, построенные в две шеренги, вплотную друг к другу, сдерживали зрителей. В свободном пространстве посредине, под конвоем, медленно двигались члены Собрания; их охраняли справа и слева по две цепи солдат: одна застыла на месте, угрожая народу, другая двигалась, угрожая его депутатам.
Подробности великого злодеяния, о котором должна рассказать эта книга, наводят на множество серьезных размышлений. Перед лицом переворота, совершенного Луи Бонапартом, всякий честный человек услышит в глубине своей совести только гул возмущенных мыслей. Тот, кто прочтет до конца нашу книгу, конечно, не заподозрит нас в намерении смягчить что-либо в описании этого чудовищного дела. Но историк всегда должен вскрывать глубокую логику событий, а потому необходимо напомнить и повторять постоянно, даже рискуя надоесть читателю, что, за исключением лишь нескольких названных нами членов левой, триста проходивших перед толпой депутатов составляли старое роялистское и реакционное большинство. Если бы можно было забыть о том, что, несмотря на их заблуждения, несмотря на их ошибки и — мы настаиваем на этом — несмотря на их иллюзии, эти люди, подвергшиеся такому насилию, были представителями цивилизованнейшей нации, верховными законодателями, народными сенаторами, неприкосновенными и священными носителями великих демократических прав; что в каждом из этих избранников народного голосования было нечто от души самой Франции, как в каждом человеке есть нечто от духа божия, — если бы можно было на мгновение забыть обо всем этом, зрелище, которое представлялось взорам в это декабрьское утро, показалось бы скорее смешным, чем достойным сожаления: после того как «партия порядка» издала столько притесняющих народ законов, приняла столько экстренных мер, столько рал голосовала за цензуру и за осадное положение, так часто отказывала в амнистии, выступала против равенства, справедливости, совести, обманывала доверие народа, оказывала услуги полиции, улыбалась произволу, — после всего этого она сама, в это декабрьское утро, в полном своем составе оказалась под арестом и шествовала в участок под полицейским конвоем.
В тот день, или, вернее, в ту ночь, когда наступил момент спасти общество, переворот внезапно схватил демагогов, и оказалось, что он держит за шиворот — кого же? — роялистов.
Дошли до казармы. Это была бывшая казарма лейб-гвардии; на фронтоне ее сохранился лепной щит со следами трех королевских лилий, сбитых в 1830 году. Остановились. Ворота распахнулись. «А, — воскликнул де Бройль, — вот куда мы попали!»
В то время на стене казармы, рядом с воротами, был наклеен плакат, на котором было напечатано крупными буквами: ПЕРЕСМОТР КОНСТИТУЦИИ.
Это была реклама брошюры, опубликованной за два или три дня до переворота, без имени автора, и требовавшей восстановления империи. Ее приписывали президенту республики.
Депутаты вошли, и ворота закрылись за ними. Кричи смолкли; толпа, которая тоже иногда начинает размышлять, еще долго не расходилась: молчаливая, неподвижная, она поглядывала то на закрытые ворота казармы, то на видневшийся в двухстах шагах, полускрытый сумеречной дымкой декабрьского дня, безмолвный фронтон дворца Собрания.
Оба полицейских комиссара пошли докладывать де Морни о своем «успехе». Де Морни сказал: «Значит, борьба началась! Прекрасно. Это последние депутаты, которых мы сажаем в тюрьму».
XIII
Луи Бонапарт в профиль
Заметим, что все эти люди восприняли происшедшее событие далеко не одинаково.
Скажем прямо, фракция крайних легитимистов, отстаивавшая белое знамя, не так уж возмущалась переворотом. У многих на лицах можно было прочесть то, что сказал де Фаллу: «Я так доволен, что с трудом делаю вид, будто покоряюсь силе». Безупречные опускали глаза — это к лицу безупречности; кто был посмелее, те поднимали голову. Бесстрастное негодование этих людей допускало известную долю восхищения. Как искусно провели этих генералов! Растерзать родину, конечно, это ужасно, но ловкость рук, с которой дело было сделано, вызывала восторг. Один из главарей правой сказал со вздохом зависти и сожаления: «Среди нас нет такого таланта!» — «Теперь наступит порядок», — пробормотал другой и добавил: «Увы!» Третий воскликнул: «Страшное преступление, и великолепно выполненное». Иные колебались, не зная, что предпочесть — законность, неотделимую от Собрания, или гнусность, присущую Бонапарту: честные души, балансировавшие между долгом и подлостью. Нашлись такие, как Томин Демазюр, который, дойдя до дверей большого зала мэрии, остановился, заглянул в зал, осмотрелся вокруг — и не вошел. Нельзя умолчать о том, что многие роялисты чистейшей воды, и в особенности де Ватимениль, были искренно возмущены вопиющим нарушением законности.
Как бы то ни было, партия легитимистов в целом спокойно отнеслась к перевороту. Ей нечего было бояться. И в самом деле, почему бы роялистам бояться Луи Бонапарта!
Равнодушных бояться нечего. Луи Бонапарт был из числа равнодушных. Он знал только одно — свою цель. Он хотел расчистить к ней путь, остальное его не интересовало. В этом заключалась вся его политика. Раздавить республиканцев, пренебречь роялистами.
Луи Бонапарт — человек без страстей. Однажды пишущий эти строки, беседуя о Луи Бонапарте с бывшим вестфальским королем, заметил: «Голландская кровь охлаждает в нем корсиканскую». — «Если в нем есть корсиканская кровь», — ответил Жером.
Луи Бонапарт всю свою жизнь только и делал, что подстерегал случай; пройдоха, желавший провести самого господа бога. Ему была свойственна холодная сосредоточенность игрока, который собирается сплутовать. Плутовство допускает дерзость, но исключает гнев. Находясь в заключении в Гаме, он читал только одну книгу: «Государь». У него не было семьи, — он мог считать себя и Бонапартом и Верхюлем; у него не было родины, — он мог выбирать между Францией и Голландией.
Этот Наполеон не питал злобы к Англии из-за острова св. Елены. Он восхищался Англией. Сердиться? К чему? Для него на земле существовала одна только выгода. Он все прощал, потому что из всего извлекал пользу; он забывал обиды, потому что всегда руководствовался только расчетом. Какое ему было дело до его дяди? Он не служил ему, он поставил его себе на службу. В своем убожестве он мнил повторить Аустерлиц. Из орла он сделал чучело.