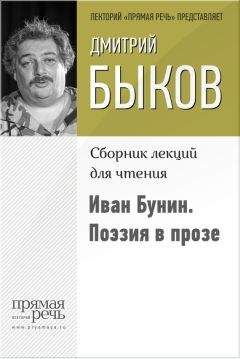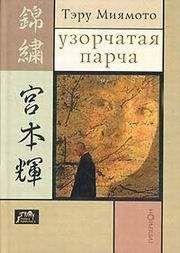Ознакомительная версия.
Бунин сегодня самый наш писатель, потому что все мы эмигранты. Только так получилось, что не мы уехали из страны, а страна из-под нас уехала вследствие разных довольно сложных перипетий. Как замечал когда-то Ленин, замаскированный – у Надежды Мандельштам в этой цитате «как писал один известный публицист»: наследникам, последним представителям обреченных классов всегда присуще катастрофическое мировоззрение. Может быть, потому, что эта катастрофа с ними случилась в их личной жизни и им хотелось бы как-то распространить ее на весь окружающий мир.
В общем, мы все, собравшиеся в этом зале (что особенно приятно – нас еще довольно много), последние представители класса вырождающейся советской интеллигенции или советского среднего класса, как называется это теперь. Поэтому нам более чем понятно это бунинское ощущение изначального катастрофизма мира, ощущение, которое заставляло его ко всем своим рассказам об идеальной любви непременно приписывать идиотский, чаще всего немотивированный, внезапный трагический финал.
Ну, возьмем «Русю», лучший, во всяком случае, самый пронзительный, самый невыносимый рассказ «Темных аллей». Перед автором «Темных аллей» стоит довольно простая задача – написать тридцать новелл о катастрофически заканчивающейся любви, потому что сам он только что пережил такую же с Галиной Кузнецовой, закончившуюся не только трагически, но и трагифарсово и абсурдно. Так вот, задача Бунина – любой ценой уничтожить намечающееся счастье. У героев в некоторых рассказах все уж совсем было хорошо. Вот, например, в «Русе» – взаимная, гармоническая любовь двух умных, ранимых, ироничных подростков. Нервных, замечательных, мучающихся к тому же творческими комплексами. Невероятная какая-то глупость обрывает течение их романа: вбегает сумасшедшая мамаша с незаряженным пистолетом или заряженным холостыми, стреляет этими холостыми патронами, кричит: «Или он, или я – выбирай, несчастная!» – ну та, конечно, лепечет: «Вы, мама, вы…» И роман, который начался так бурно, так страстно, заканчивается абсолютно ничем. Я уверен, что этого быть не могло, уж как-нибудь он бы ее нашел, отстоял бы, встретил бы ее в Москве – это получило бы какое-то продолжение. Нет, везде все время рисуется этот страшный обрыв.
«Муза», в которой тоже ничто не предвещает горя. Муза Граф, консерваторка, влюбленная в композитора, все прекрасно, все взаимно. Вдруг она влюбляется в абсолютное ничтожество и, будучи девушкой умной и тонкой, почему-то не разочаровывается в этом ничтожестве, надолго и накрепко с ним остается. Любой ценой уничтожить счастье героев! Я уж не говорю о более ранней «Митиной любви», в которой Митя стреляется, в общем, от тех вещей, которые любой подросток переживает, переживает несколько раз, переживает спокойно и под конец даже не без удовольствия, поскольку это хоть как-то разнообразит уже более-менее устоявшуюся жизнь. Конечно, когда подростку уже под тридцать… (смех в зале)
Это желание любой ценой произвести мрачный и роковой финал, разумеется, лежит в мироощущении человека, изначально видящего жизнь как катастрофу, мыслящего ее как катастрофу и принадлежащего к обреченному классу. В нашем случае эта обреченность простирается еще дальше. Потому, что, глядя на усиливающийся и сгущающийся буквально с каждым днем абсурд происходящего, доходящий уже до полного бадминтона, мы понимаем, что заканчивается не советская и не наша с вами жизнь, не наш класс – заканчивается определенная цивилизация, происходит вырождение. И в этом смысле Бунин «Окаянных дней» и, более того, Бунин «Господина из Сан-Франциско» нам понятен абсолютно. Нам вместе с ним внятно ощущение антропологической катастрофы. И вот за это ощущение антропологической катастрофы, караулящей на каждом углу, мы готовы простить ему натянутость сюжетов, повышенное и явно патологическое (здесь можно, пожалуй, согласиться с Набоковым) внимание к патологическим же типам. К женщинам, не знающим, чего они хотят, к мужчинам, не могущим никак взять свою жизнь в руки. Мы прощаем ему эту вечную атмосферу с одной стороны праздника, а с другой – похорон, с этим непременным сочетанием. Прощаем даже невероятную стилистическую избыточность. Когда мне приходится сегодняшним школьникам читать вслух «Господина из Сан-Франциско», – потому что исчезающе малы шансы, что они прочтут это сами, – я испытываю определенную неловкость не только от великолепной избыточной инструментовки этого рассказа, не только от его абсолютно серебряновековой пряной пошлости многословия, библейских аллюзий, библейского же музыкального слога, но испытываю неловкость прежде всего от того, что автор гробит своего героя абсолютно ни за что. Этот американец, который всю жизнь трудился, копил и теперь должен почему-то в рамках бунинского эсхатологизма за это расплатиться, не вызывает у меня ничего, кроме сострадания. Более того, в эпиграфе «горе тебе, Вавилон, город крепкий…», в описании парохода, который вот-вот потонет, в постоянном подчеркивании слова «крепкий», когда заходит речь о голове американца, о напитке, о ветре (то есть все крепкое должно погибнуть, это подчеркивается) – в этом видится мне, к сожалению, некоторая отсылка к ненавидимому им, но все-таки его современнику Блоку, который после гибели «Титаника» записал в дневнике ни много ни мало: «Слава богу, есть еще океан». То есть, я вижу здесь некоторое смутное, как это ни ужасно звучит, злорадство человека, чья внутренняя постоянная обреченность срезонировала наконец с чьей-то чужой гибелью. Бунин потому так ценит катастрофы в мире и так любит описывать катастрофически завершающуюся любовь, что это гармонирует с его ощущением человека, чья усадьба распалась, чья семья обнищала, чья работа оказалась не нужна и, наконец, чья страна гибнет на глазах.
В этом смысле Бунин – наш, родной писатель еще и потому, что он первый, кто почувствовал в упадке не столько ужас, сколько повод для речи, утешения и пиршеств. Не будем забывать, что его главная поэма «Листопад», которая удостоилась пушкинской премии, (впоследствии он ее же получил за «Гайавату») – это удивительное свидетельство того, что увядание для Бунина и трагедия для Бунина не столько повод отчаяться, сколько повод сделать из этого некое почти пиршество. Ведь этот «лес, словно терем расписной, зеленый, золотой, багряный» – самые зацитированные две бунинские строчки – это как раз мощный символ умирания, символ гибели. И это праздничное умирание, эта гибель – и есть главная бунинская тема. Посмотрите, с каким восторгом, с каким, страшно сказать, аппетитом, описывает он этот корабль, тяжко преодолевающий ночь, мрак, бурю! Посмотрите, какие роскошные предметы обстановки, какие хрустальные висюльки, какие пластроновые рубашки! Как ему ужасно нравится все это, обреченное гибели вот сейчас! Более того, какой-то уже почти неприкрытой некроманией веет от того, как он убивает разнообразными способами все любящее и цветущее. В этом видится не столько патология, патологии нет, сколько месть за собственную жизнь, с самого начала поруганную.
Если бы меня спросили, не дай бог, кто сегодня самый близкий Бунину писатель, я бы с ужасом ответил – Петрушевская. Почему? Хотя ее принято возводить к Леониду Андрееву, и они так и идут в одной связке, потому что оба имеют несчастье писать одновременно и пьесы, и рассказы, и вечно мучиться виной перед критикой, как любой человек, умеющий больше, чем положено. Но, тем не менее, что поделать? Петрушевская, будучи, по-моему, единственным гениальным прозаиком сегодня, непосредственно наследует Бунину в очень важной интенции – это страшное желание предъявить счет за собственную поруганную жизнь и удвоенное отчаяние от того, что предъявить этот счет некому. Вот это у нее особенно отчетливо в блестящем рассказе «Кто ответит?» Это же, собственно говоря, особенно видно и у Бунина.
Бунин, как никто другой из русских прозаиков, жаждет диалога с Богом. И, как никто другой из русских поэтов, он понимает, что этого диалога нет, что не будет ответа, что не к кому обратиться. И тогда поневоле возникает вопрос: каковы же ценности этого бунинского мира? Еще с «Антоновских яблок», первого его рассказа, обратившего на него внимание прессы, мы замечаем, что вырождается дворянство, что вырождается прелестный усадебный мир, который, может, и не был никогда особенно хорош, но теперь среди этой грозной прелести, осенней прелести увядания он действительно обретает какие-то прекрасные, почти титанические черты. Вырождается Россия, вырождается на глазах. Что происходит с общиной, он рассказал в «Деревне». И рассказал так, что после этого уже у всех, читавших Чехова, последние иллюзии развеялись окончательно.
С любовью происходит та же самая история, потому что единственная доступная бунинским героям любовь – это «Солнечный удар»: встретились, все стремительно произошло, расстались навеки, а хорошо бы еще и застрелились оба, но это не всегда получается. Вот в «Деле корнета Елагина» вышло, а в «Солнечном ударе» просто постарели на десять лет. Все абсолютно обманывает и гибнет. Что же остается спасительной ценностью?
Ознакомительная версия.