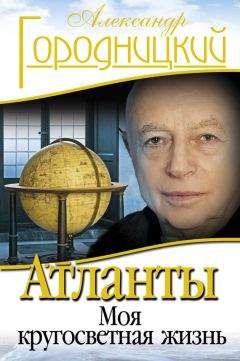Не вышло. Так как мы с приятелями затеяли машинописный журнальчик «Одуванчик»[9] тиражом сначала в четыре, потом в десять экземпляров, не что чтобы крамольный, но все-таки, и это, как решило факультетское начальство, не стоило исключения из университета, но стоило невыдачи рекомендации в аспирантуру. Ну и ладно, я поработал в районной газете[10], в областной молодежке[11] и, набравши обязательный тогда двухгодичный производственный стаж, поступил-таки в ИМЛИ[12]. Стал то есть москвичом.
И вот стою я года три или четыре назад на сцене Донской научной библиотеки, рассказываю что-то собравшейся там профессуре, а сам думаю: ребята, а ведь я бы мог быть среди вас и одним из вас и так же слушать заезжего литературного критика из Москвы. Случись так, жизнь, наверное, была бы не хуже, чем моя нынешняя, эта, но проживаю я все-таки эту.
* * *
OPUS, говорите вы, MAGNUM[13]?
Мой отец всю свою жизнь проработал железнодорожником – сначала в Ростовской области, потом, уже как ссыльный[14], в Архангельской и, наконец, снова в Ростовской. Совершенно поэтому понятно, что первой газетой, попавшей мне в руки, был «Гудок». И то ли читал я в детстве этот орган Министерства путей сообщения чересчур уж старательно, то ли повлияло то, что старший брат у меня был журналистом, правда спортивным, но после девятого класса я заявился в редакцию районной газеты: хочу, мол, попробовать. Ну, пробуй, сказали мне и дали задание побеседовать с крановщиком, победителем, как сейчас помню, социалистического соревнования.
Прихожу на стройку, спрашиваю, где такой-то. Да у себя, отвечают и показывают рукою высоко-высоко вверх. Я обомлел, но полез, конечно, а когда до кабины добрался, то выяснилось, что крановщика-то и нет. Обедать ушел.
До сих пор иногда снится, как я с этого крана спускался. Руки дрожали. Но заметку все-таки добил, ее напечатали, и со временем я благоприобрел некоторую даже, знаете ли, самоуверенность. Так что и первую в своей жизни литературно-критическую статью – о стихах моего сокурсника, блистательно тогда начинавшего Леши Приймы[15], – опубликовал в университетской многотиражке «За советскую науку» без всякой робости. И за первую рецензию в журнале «Дон»[16] за 1968 год – отчего-то о романе «Зори лютые» кубанского писателя Бориса Тумасова[17] – тоже, не мандражируя, взялся.
А вот когда я уже на четвертом курсе заклеивал конверт, чтобы отправить в «Новый мир»[18] малюхонькую, на две всего машинописные странички, рецензию на сборник стихов ленинградской поэтессы Ирины Маляровой[19], руки у меня опять задрожали. И дрожали ровно до той поры, пока я не взял в университетской читалке наконец-то пришедший журнальный номер – второй за 1970 год и последний, что был подписан к печати Александром Трифоновичем Твардовском.
Две странички всего. Но в «Новом мире»!.. И успел при Твардовском!.. Значит, жизнь удалась. Я же вам говорю – OPUS MAGNUM, как и было сказано.
* * *
Служа в 1971 году заведующим отделом промышленности и транспорта в районной газете, я, разумеется, скучал и, признаюсь уж, резвился. Завел при редакции литературное объединение, а в самой газете «Литературную страницу». Собственные стихи на ней печатать, правда, посовестился, благо самодеятельных поэтов по хуторам и станицам и тогда без меня хватало, а вот два рассказа о любви, до того побывавшие в студенческом журнале «Одуванчик», все-таки тиснул.
Что не принесло мне ни славы, ни неприятностей. Как не принесли мне никакого вреда и журналистские шалости, вроде того, что лирические зарисовки – был в арсенале советской печати и такой жанр – о знатных, допустим, доярках, подписывал именем Игоря Северянина, а проблемные статьи о наболевших нуждах, скажем, стрелочников щедро инкрустировал цитатами из поэтов, которые были строжайше запрещены к упоминанию.
Ну, и кто меня поймает? Отдела проверки в маленькой нашей газете, естественно, не было. Цензора тоже, поскольку эти обязанности возлагались на самого редактора. А большое начальство к стихам было глухо.
Один только всего и помню, раз вызвали меня к секретарю райкома по идеологии. И показывает он мне свежий газетный оттиск с моей же руки отчетом о прошедшем заседании районного партхозактива[20]. Где написано, что в докладе первого, наоборот, секретаря рефреном – вы поняли, рефреном! – проходила мысль о чем-то там таком.
Оказывается, наш районный идеолог, человек невинный, но добросовестный, полез-таки за незнакомым термином в словарь и обнаружил, что рефреном могут называть и припев.
«Это что же, – закричал он на меня. – Наш Василий Назарович на трибуне, выходит, частушки пел?!»
Кричал долго. Но я и не оправдывался. Пытался лишь вспомнить, бывают частушки с припевами или все-таки нет.
* * *
И тут же о разнице между московской литературной жизнью и провинциальной[21], во всяком случае, тогдашней.
Работаю, еще до всякой аспирантуры, в областной газете «Комсомолец», печатаю первые рецензии в «Новом мире», «Юности»[22], «Дружбе народов»[23]. И, естественно, меня приглашают на семинар молодых критиков в Переделкино[24]. А как вернулся, звонок, зовут в местное отделение Союза писателей. Встречает меня их оргсекретарь и по совместительству детский писатель. Очень дружелюбен, расспрашивает, расхваливает. Вот тебе, говорит, Сергей, талон на приобретение машинописной бумаги по писательскому лимиту[25]. А вот, говорит без перерыва, мои книги. Напишешь о них для «Вечернего Ростова»[26], я уже договорился, а потом расширишь и отдашь в «Дон». Там уж ты сам договоришься, ладно?
Зиновий Самойлович Паперный[27], руководивший переделкинским семинаром и давший мне, кстати, много позже рекомендацию в Союз писателей, будто предвидя все, говорил мне еще в семинарские дни: «Можно, Сережа, быть в провинции прозаиком, можно поэтом. А критиком никак нельзя. Сожрут вас в этой банке с тарантулами». А что, спрашиваю, Москва – это не банка с тарантулами? Тоже, кивает Зиновий Самойлович, банка, но большая-большая, можно в сторонку отползти…
* * *
Наладившись на рубеже 60—70-х в критики, стремился я, разумеется, печататься в центральных, как тогда говорили, журналах. Но Москва от Ростова далеко, об Интернете еще и слуха не было, так что, приезжая в столицу сначала студентом, затем журналистом из провинции, я в надежде получить заказ обошел все, кажется, известные мне редакции. Кроме, понятно, «Молодой гвардии»[28] и «Нашего современника»[29], уже тогда мне чужеродных. Для «Юности», ежусь, написал рецензию на первую книжку Татьяны Глушковой[30] – но кто же тогда знал, как время развернет эту ученицу Ильи Сельвинского? А в «Знамени»[31] в ответ на предложенную статью об Арсении Тарковском Дмитрий Викторович Стариков[32], ведавший там критикой, посмотрел, помню, на меня с искренним изумлением: «Почему именно о Тарковском? – И он пренебрежительно щелкнул пальцами. – Таких, как Тарковский, у нас на пятачок пучок. Напишите лучше о Сергее Поделкове[33] – в нем есть масштаб».
Ну надо же, думаю, а я его и не читал. Пришлось топать в сотый на Горького[34], чтобы, стоя у прилавка, листать солидный (масштаб же!) том Поделкова. И уж на то, чтобы этот масштаб не поприветствовать, ума у меня все-таки хватило. А в самоучителе литературного поведения, которым я руководствовался, появилось очередное правило – можно писать только о книгах, которые ты либо уже купил за собственный счет и по собственной воле, либо еще только мечтаешь положить на свою прикроватную тумбочку.
* * *
Живя еще в Ростове, но печатаясь уже в столице, я стал приобретать некоторую даже известность в узком, но шумном (тогда, тогда!) кругу местных литераторов. Местная партийная газета «Молот»[35] даже уделила моей нескромной персоне целый абзац. До сих пор помню. Да и как забудешь, если сказано было – цитирую навскидку: «В славном эскадроне донских писателей появилась еще одна критическая сабля».
Причем слова «еще одна» были, как все понимали, типичной для партийно-советской печати гиперболой. Критиков на Дону как тогда не водилось, так и позже они, кажется, не произросли. Поэтому местные мастера поэзии и прозы начали охотиться именно за мною – не потому, что я стал таким уж хорошим критиком, а потому, что был единственным, других нету.
Они охотились, я прятался, видя даже известную доблесть в том, чтобы ни словом не обмолвиться об окружавшем меня – и не то чтобы очень гадком, но каком-то безнадежно сереньком – региональном ландшафте. Тоже, знаете ли, своего рода эмиграция – из постылой малой родины в вымечтанную и желанную, общероссийскую.