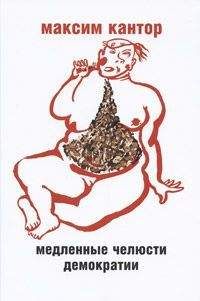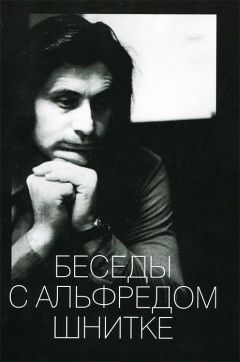И.В. – Г.: Твоя поэзия и мандельштамовская очень далеки друг от друга, это совсем разные миры.
С.К.: Абсолютно. Я его практически не читал. Не то что он мне не нравился, просто поэт другой сферы. Я читаю только то, что мне нужно. Я представляю себе поэзию так: обычно пишут по горизонтали, эту горизонталь наполняют разными вещами – бытом каким-то, каким-то болотом или грязью, а иногда чем-то плотным и интересным. А иногда хочется, чтобы поэт взял бы эти плотные строчки и повернул бы их по вертикали. Так случилось, и это, конечно, религиозное воздействие, что я повернул свою поэзию по вертикали. Что такое вертикаль – я тебе продемонстрирую на маленьком стихотворении Хлебникова. Вот он пишет:
Это было, когда золотые
Три звезды зажигались на лодках
И когда одинокая туя
Над могилой раскинула ветку.
Ты чувствуешь, как он тянет плоскость стиха вниз, такое натяжение, приятное, даже мускульное, ощущается. Теорию эту, кстати, разрабатывал Крученых. Он хотя и был юродивым, но на самом деле в поэзии понимал очень глубоко и именно хотел, чтобы строфы меньше значили, чтобы гармония шла по плоскости всего стихотворения сверху вниз, он был тоже сторонником вертикали, ему самому это не очень удавалось, но как теорию он это даже очень понимал.
Я недавно был на презентации книги Лени Черткова и подумал (но, конечно, не сказал), что, если бы Чертков взял свои плотные строки, повернул бы по вертикали свою поэзию, может быть, все сложилось бы по-другому, и он не сошел бы с ума и остался бы жив.
И.В. – Г.: Так ты начал писать стихи. И что ты читал?
С.К.: Я сразу скажу, что я не читал. Блока. Я не любил его. А любил футуристов, любил Маяковского, отдаю ему должное, хотя сейчас его не читаю. Хлебникова очень люблю, Крученых – я был с ним знаком, и он высоко ценил мои стихи. Читал английскую поэзию: Киплинга, переводил Элиота – недавно перевел Эзру Паунда.
И.В. – Г.: Первые детские стихи исчезли, и ты начал писать стихи, в которых произошел невероятный сдвиг, выделивший их из всей предшествующей тебе поэзии.
С.К.: Да, они отличаются, но то, что остается для меня относительно приемлемым из этих стихов сейчас, – это латвийские пейзажи. Я вообще не даю согласия на публикацию старых стихов, но эти никто и не пытается печатать, а они наиболее интересные.
И.В. – Г.: Миша хранит все, что ты тогда написал, он напечатал подборку в своем «Левиафане». Это была одна из твоих первых публикаций, но после того, как ты сам написал нам, что запрещаешь их публиковать, он, конечно, больше не печатал тех твоих стихов.
С.К.: Возникла какая-то порча, почему – я не знаю: я не люблю, не воспринимаю то, что возникло потом.
И.В. – Г.: То, что называется «классический Красовицкий»?
С.К.: Да. Вот у скандинавов – я не знаю их языков – скальды специально делали «висы» на смерть, есть там эта внутренняя гармония, расстояние между звуками, эта решетка была. Но в эти стихи, которые сейчас особенно популярны, включены и не мои стихи, потому что там Андрей Сергеев вмешался, нарочно вставлял свои стихи, причем пародии на меня писал – на одно из самых известных моих стихотворений «А летят по небу гуси да кричат…» (я-то не понимаю, что в нем особенного, оно написано на выставке Рериха).
И.В. – Г.: Я это «неважное» стихотворение помню наизусть с шестнадцати лет.
С.К.: Но ты-то помнишь оригинал, а тут другие слова вставлены. Зачем было портить? Я боюсь этой решетки. Бог наделил меня какимто талантом, но талант может быть в разные стороны направлен. И это важный момент, что я переключился, как бы то же самое, но я просто перевернулся по вертикали, во всяком случае, я знаю, что новые мои стихи вреда не принесут.
И.В. – Г.: Что такое вред?
С.К.: Вред для психического здоровья и, может, даже для физического.
И.В. – Г.: То есть ты считаешь, что стихи могут нанести физический ущерб?
С.К.: Безусловно. И именно у талантливых поэтов. И это все решетка, потому что у графоманов и слабых поэтов она смазана или ее совсем нет. Они пишут, и это просто скучно. Вот тут меня один человек замучил сонетами – я был в другом городе. Человек очень хороший, очень грамотно написано, ничего там вредного нет, но я стал безумно уставать от отсутствия поэзии в этих грамотных стихах. А там, где есть поэзия, она может быть опасной.
И.В. – Г.: Когда мы жили в советское время и читали советские стихи, от больших их героев до самых маленьких, мы точно знали, что отделяет нашу поэзию: там были официальная абсолютная неправда, сопливая романтика, разбавленный акмеизм и неосведомленность, отказ от всеобщих достижений поэтической мысли и формы. Нам было легко и удобно жить со всеми этими определениями. Сейчас же ты видишь человека, владеющего всеми видами версификаций, обо всем осведомленного, и грамотного, и умеющего, – и… все-таки какое-то основное качество утеряно. Конечно, не у всех.
С.К.: Для поэзии самое опасное – когда человек пишет на публику. Если он пишет для себя и на необитаемом острове – это нормально. Я и сейчас пишу стихи, которые мне кажутся недостаточно хорошими, я их никому не даю, но на необитаемом острове я их писал бы тоже. В наше время это было возможно и даже приятно – отделиться от советского стандарта и фальшивого авангарда – Евтушенко, Вознесенский и пр. – и чувствовать себя совершенно независимым, ощущать, что, по крайней мере, пишешь что хочешь. И мы это очень культивировали. Чертков (был такой поэт), Хромов, Галя Андреева, Олег Гриценко, Шатров – но он, правда, где-то сбоку. Мы не кривили душой, а это, безусловно, накладывает отпечаток на поэзию, делает ее настоящей. А сейчас они пишут на публику, и, какой бы техникой они ни обладали, они знают, как сделать нужную неправильность, чтобы она была в нужном месте, они делают все как надо, но получается мертво. И их стихи никому не нужны.
И.В. – Г.: Для чего ты писал тогда стихи?
С.К.: Писал, потому что они писались. Я не только ни в коем случае не хотел печататься – у нас была такая установка. Один раз Гале Андреевой предложили напечатать ее гражданскую поэзию. Леня Чертков сказал ей: «Ты что, от такой компании откажешься?» – и она прекратила все эти поползновения.
Вот Андрей Сергеев – человек талантливый, но он-то хотел печататься, он как раз хотел быть мэтром, хотел, чтобы его знали, как и Бродский. Он испортил свою поэзию – я помню его ранние стихи, неплохие, свежие. Если бы он тогда остановился, его участь была бы такой, как наша. А так он печатался, стал чуть ли не академиком.
И.В. – Г.: Ты, Леня Чертков, Валя Хромов – одна из первых после террора групп в русской поэзии, вы писали, читали друг другу стихи, были близкими друзьями. Но потом стали появляться другие свободные поэты: Игорь Холин, например.
С.К.: С Игорем Холиным и Генрихом Сапгиром я был знаком, но мы принадлежали к разным кругам. Наша группа концентрировалась вокруг литобъединения Института иностранных языков, куда я поступил. Там был Сергеев, он познакомил меня с Чертковым, который учился в Библиотечном институте, но ходил в наше литобъединение; Хромов тоже учился в Инязе. Все как бы случайно, но очень точно. А Холин и Сапгир – это была лианозовская группа. И еще Шатров был, человек не очень интересный, но был принят в музее Скрябина, он там читал стихи, и ему вручали цветы.
И.В. – Г.: Но был Пастернак, был Крученых, была Ахматова…
С.К.: Я короткое время очень увлекался Пастернаком. Ахматова на меня не оказывала никакого влияния, не производила никакого впечатления. Цветаеву я просто не люблю, из Серебряного века мне нравится Гумилев. И есть такой очень хороший поэт – Василий Алексеевич Комаровский, его вспоминает Георгий Иванов в своих «Петербургских зимах». Я футуристов люблю.
И.В. – Г.: Почему Пастернак стал чужим и неинтересным?
С.К.: Поэтические организмы живут своей жизнью, у каждого своя среда обитания. Пастернак – гениальный поэт, но там просто другая среда обитания. Если бы я был просто читателем, я, безусловно, зачитывался бы Пастернаком. Но как поэт я в другой речке живу. А Ахматова и особенно Цветаева – это совсем чужое.
И.В. – Г.: Ты говоришь то же, что и Миша Гробман, – одна порода.
С.К.: Ну, Миша – тоже футурист. Он настоящий футурист – так я говорил ему всегда.
И.В. – Г.: Я прочла громадное количество воспоминаний, а воспоминания, если в них заключена хоть крупица правды, – это всегда интересно.
С.К.: Интересно, я мемуары читаю.
И.В. – Г.: Вот Найман написал книгу воспоминаний, там много о тебе. Как ты вообще относился к ленинградцам?
С.К.: Мы к ним относились свысока: во-первых, у них было то, чего не было у нас, – заносчивость. Когда они говорят с читателями – ну, прямо мэтры. Там был талантливый поэт Аронзон.
И.В. – Г.: Ты так считаешь?
С.К.: Да, но он печально кончил.
И.В. – Г.: А Бродский?