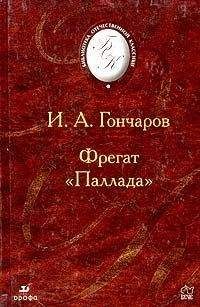Итак, «Млада» на Север не пришла. Ее постиг взрыв иного рода, чем тот, что уничтожил «Пересвет», — взрыв революционный. В Россию мятежные младовцы возвращались по сухопутью. Морской Генеральный штаб остался очень недоволен либеральничаньем командира посыльного судна, недоволен тем, что Домерщиков не смог «обуздать распоясавшуюся команду». По возвращении в Петроград он был снижен на ступень в воинском звании — из кавторанга снова стал старшим лейтенантом, и в этом чине в ноябре семнадцатого года был «отчислен в резерв морского ведомства». Приказ этот, заготовленный еще в канун Октябрьской революции, бюрократическая машина адмиралтейства провернула по инерции в первые дни Советской власти. Список моряков, увольняемых с флота, подписали управляющий морским министерством «первый красный адмирал» Иванов и народный комиссар по морским делам Дыбенко. Если бы они знали, что от службы отстраняется офицер, относившийся к своей революционной команде «с тактом и пониманием», фамилию Домерщикова наверняка бы вычеркнули из этого списка. Но они не знали, и это роковое обстоятельство отлучило моего героя от военного флота на двадцать лет…
Вот что стояло за старой фотографией, найденной Еленой Сергеевной в осиротевшей комнате.
— Вместе с этой фотографией я нашла еще одну. Елена Сергеевна положила передо мной желтоватый снимок на паспарту из плохонького рыхлого картона. Я вздрогнул: это была та фотография, которая в досье Паленова имела достоинство козырного туза. Домерщиков позировал фотографу в форме английского офицера — френч, перетянутый портупеей, бриджи… Стоп! На полях паспарту слабая карандашная надпись: «Порт-Саид, 17». Так вот в чем дело! И как же я раньше не догадался! Лихорадочно роюсь в портфеле, достаю ксерокопию дневника Иванова-Тринадцатого. Листаю. Глава «После катастрофы»: «…англичане обмундировали спасенную часть команды в английское солдатское платье, снабдили лагерным имуществом: палатками, одеялами, циновками, взяли на довольствие…»
Вот уж действительно ларчик открывался просто! Ну как было не сфотографироваться в столь экзотической форме: русский моряк в мундире английского пехотинца. Мог ли он подумать, что этот шуточный почти снимок будет использован против него как одно из главнейших доказательств его участия в чудовищном преступлении?
Так в досье Палёнова была пробита вторая брешь: Домерщиков не был ни дезертиром, ни офицером английской армии!
Елена Сергеевна достала длинную плоскую коробку, в каких хранили когда-то лайковые перчатки.
— Это вещицы Екатерины Николаевны, — сказала она. — Я взяла их на память…
В коробке лежали дамские безделушки: перламутровые ручки от маникюрных инструментов, веер с камеями и крохотным зеркальцем, девичий альбомчик со стихами и рисунками, запиравшийся на замочек… Последние отблески жизни, канувшей в Лету…
— Вот и все, что мне досталось от Екатерины Николаевны, — развела руками Максимович.
Я был рад, что осталось хоть это… Я был благодарен этой женщине, весьма далекой от истории флота и архивных розысков, но тем не менее подобравшей с пола старью «бумажки» и фото, сохранившей частицу жизни почти неведомого ей человека. Она поступила, как истинная интеллигентка, и благодарить ее за это было бы бестактно.
— Значит, главная часть семейного архива Домерщиковых попала к той женщине, которая ухаживала за Екатериной Николаевной в доме престарелых?
— У Нины Михайловны, — уточнила Максимович.
Я прозвонил всю цепочку ленинградских телефонов, и уж так мне везло в тот день — сестра соседки Домерщиковых по эпроновской квартире Татьяна Павловна Беркутова отыскала номер какой-то женщины, чей зять знает адрес Нины Михайловны. Зять сообщил заветный адрес и тут же предупредил, что у Нины Михайловны большая беда. Поздним вечером она возвращалась из сберкассы, ее подкараулил грабитель, ударил молотком по затылку… В общем, рана зажила, но ее мучают головные боли, у нее провалы в памяти, и вообще ей вредно перенапрягаться, вспоминать, волноваться… Сейчас она уехала к родственникам в Саратов. В Ленинград вернется не раньше чем через месяц.
До отхода «Красной стрелы» еще есть время заглянуть в архив.
Когда-то для меня это слово звучало так же мертво, как «кладбище», а люди, которые там работали, напоминали этакого дотошного старичка, «веселого архивариуса» из популярной радиопередачи, который весело пел: «Для вас ищу повсюду я истории забавные»…
Теперь знаю: архив — пороховой погреб истории. В толстостенных хранилищах за тяжелыми стальными дверями коробки с документами стоят на стеллажах, как снаряды в корабельных артпогребах. Мне показалось — грянул самый настоящий взрыв, когда я открыл топенькое «Судное дело лейтенанта Домерщикова». Кронштадтский военно-морской суд приговаривал моего героя в 1914 году к «отдаче в исправительное арестантское отделение на два года и четыре месяца с исключением из службы и лишением воинского звания, чинов, ордена Св. Станислава III степени, дворянских и всех особенных прав и преимуществ» — я глазам своим не поверил! — «за непополненную растрату 22054 рублей 76 1/2 копеек, вверенных ему по службе денег и учиненный с целью избежать суда за эту растрату побег со службы в 1906 году…».
Как, Михаил Домерщиков — обыкновенный растратчик?!
Лучше бы я не находил этих бумаг! Лучше бы на этом месте биографии героя навсегда осталось бы белое пятно… Мне не хотелось верить «судному делу». Но слова из песни, а тем более из документа — не выбросишь…
Образ Домерщикова как-то сразу поблек в моих глазах. Напрашивался и другой горький вывод: человек, промотавший корабельные деньги, мог вполне стать героем досье господина Палёнова.
Но что он сделал с этими двадцатью двумя тысячами? Прокутил в ресторанах? Проиграл в карты? Присвоил? Ни на один из этих вопросов я не мог сказать себе «да», и вовсе не потому, что не знал точно, как именно распорядился он этой суммой, а потому что не верил, что такой человек, как Михаил Домерщиков — образ его сложился прочно! — способен на бесчестные поступки. Не верил, и все тут.
Ленинград. Март 1986 года
Я с нетерпением дождался возвращения в Ленинград Нины Михайловны. Узнав, что она чувствует себя более-менее сносно и может меня принять, отправился на Каменный остров с тайной надеждой, что это последний пункт моей гонки за архивом Домерщикова. Надежду эту подкреплял и вид дома — старинной постройки «под крепость», в таких стенах старые бумаги приживаются. И камин, переделанный в печь, обнадеживал меня, и потемневшая бронза люстры, и обе хозяйки комнаты — пожилая дочь и престарелая мать, одна — инженер-рентгенолог, другая — физик-педагог, — да и весь дух старой, петроградской еще квартиры, все, все сулило надежду на успех. Но… не может же везти бесконечно.
— Все бумаги Екатерина Николаевна сожгла перед отъездом в дом престарелых, — огорошила меня Нина Михайловна. — Лично у нас никаких дневников, писем, документов и даже фотографий не осталось. Мебель продали через комиссионку. Мебель хорошая была, старой работы, карельская береза… Трюмо, шкаф, бюро с маленькими ящичками… Да… Единственное, что осталось у нас от Екатерины Николаевны, так это вот этот чемоданчик.
Передо мной раскрыли ветхий чемоданчик вроде нынешних «кейсов», блеснули безделушки: хрустальные подставки под ножи и вилки, серебряная ложечка, медная пепельница работы Фаберже с вязью «Война, 1914 год», гипюровая вставочка с блестками, коробочка из-под сигар «Георгъ Ландау» со стеклярусом, бронзовые гномики на куске полевого шпата…
Мир вещей человека — это слепок его души. Передо мной лежали осколки этого слепка. И здесь, как и в бывшей квартире Екатерины Николаевны на Кирочной, отлетевшая ее жизнь немо продолжалась в этих вещицах…
— У нас больше ничего нет…
— Никаких бумаг и фотографий?
— Никаких…
— А в мебели, в бюро или в шкафу ничего не было? Вы ничего не находили?
Дочь с матерью переглянулись.
— А мы особенно и не осматривали… Может, что ж было…
Я не удержал горького вздоха и стал прощаться.
— Конечно, — рассуждал я вслух, — нет смысла и искать эту комиссионку… Адреса покупателей не регистрируют. Да и кто помнит, какую мебель привозили в магазин десять лет назад…
— Знаете что! — вдруг всполошилась мать Нины Михайловны. — Ведь в магазин ушла только часть мебели. А бюро, шкаф и трюмо были вроде бы проданы на киностудию «Ленфильм», как реквизит, но надо проверить… У меня, кажется, и телефон этой женщины сохранился… Вот он: Елизавета Александровна Тарнецкая…
Телефон старый, шестизначный.
Ни на что не надеясь, так, для сознания, что сделано все, что могло быть сделано, выясняю в справочной службе, которой за эти дни мой голос наверняка надоел, новый номер Тарнецкой, звоню…