Ознакомительная версия.
If I undertook to write an article on this book, I would certainly do so in a destructive vein. However, the author, whom I used to know well, is a very old man, and I do not feel I that should demolish his book. As I cannot praise it, I would rather not review it at all. <Дословный перевод: «Если бы я взялся за написание рецензии на эту книгу, я бы наверняка написал ее в уничижительном ключе. Однако автор, которого я некогда хорошо знал, человек очень старый, и мне не хочется разносить его книгу. Поскольку похвалить ее я не могу, то лучше мне вообще ее не рецензировать»>[350].
Всего через две недели после этого, 2 мая 1951 года, Набоков напишет Гринбергу из Итаки, городка с гомерическим названием, где расположен Корнеллский университет и где Набоков прожил более десяти лет: «<…> ты пожалуй единственный человек, которому я готов был бы доверить перевод Conclusive Evidence <«Убедительное доказательство»> на великий, могучий, свободный. Ив. Бунин? Но у него есть ужасные одессизмы (как напр<имер> “он стыдился за глухоту”) и кроме того он не знает английского»[351]. Не берусь утверждать с полной уверенностью, но такого оборота в прозе Бунина я не обнаружил, как в словах бунинских рассказчиков, так и в прямой речи его персонажей. При этом Бунин очень часто употреблял формы наречия «глух» и прилагательного «глухой» (в «Господине из Сан-Франциско» «глухо гоготали исполинские топки»; в «Отто Штейне» герой думает «о жизни глухой, дикой, ветхозаветной»). Я не исключаю, что Набоков в порыве самокомпенсации, которым нередко сопровождается переход автора на другой литературный язык и в другую культуру, придумал эти «одессизмы», памятуя о времени, проведенном Буниным в Одессе сначала до революции, а потом уже после революции и до эмиграции. Набоков также упоминал Бунина в предисловии к сборнику выбранных интервью Strong Opinions («Глубокие убеждения»), а также в предисловии к английскому переводу романа «Дар»: «Gone are Bunin, Aldanov, Remizov» («Ушли из жизни Бунин, Алданов, Ремизов»)[352]. В разговоре 1971 года со своим бывшим студентом, американским литературоведом Стивеном Паркером (Stephen Jan Parker) он назвал «Легкое дыхание» своим любимым рассказом Бунина[353]. Набоков так же обратился к примеру Бунина в интервью 1973 года канадскому радиовещанию, напомнив интервьюеру Мати Лаансо (Mati Laanso) и радиослушателям, что уже был русский писатель-эмигрант, удостоившийся Нобелевской премии, – Бунин в 1933 году[354]. Нобелевской премии Набоков так и не получил.
В послевоенных произведениях Набокова мы сталкиваемся с рядом полемических и сатирических отсылок к Бунину. В «Других берегах», русскоязычном варианте автобиографии, описание встречи писателей в Париже заканчивается имитацией прозы Бунина (в английском тексте эта имитация должна была бы следовать за фразой «Bunin and I adopted…» <«Между Буниным и мной завелся…»>): «…и в общем до искусства мы с ним никогда и не договорились, а теперь поздно, и герой выходит в очередной сад, и полыхают зарницы, а потом он едет на станцию, и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, и чем-то горьковатым пахнет с полей, и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи» (Набоков РСС 5:319; ср. Набоков 1990, 4: 428).
Эта пародия Набокова – далеко на первая – подводит итог сразу нескольким повторяющимся мотивам бунинской прозы. Образ кричащих петухов встречается у Бунина в общей сложности около тридцати раз. Ритм повествования – герой, выходящий в сад и скачущий на станцию, – напоминает «Жизнь Арсеньева», где молодой герой несколько раз возвращается в родную усадьбу и снова покидает ее для вступления в новую главу своей (авто)биографии. Наконец, «опевают ночь петухи» – это перевернутая строка из зарисовки Бунина, озаглавленной «Петухи» и впервые напечатанной в «Последних новостях» в 1930 году. Позднее Бунин включил «Петухов» в сборник «Божье древо» (1931), экземпляр которого подарил Набокову[355]. У Бунина в последнем предложении: «петухи опевают ночь» (Бунин СС 5: 426). В этой пародии Набокова, которой нет в английских вариантах автобиографии, «Жизнь Арсеньева» на первый взгляд пародируется, а на второй – прославляется (особенно если вспомнить восторженную рецензию молодого Набокова на ранний вариант «Жизни Арсеньева»)[356].
В пятой главе романа «Пнин» (1957) живущий в послевоенной Америке профессор-эмигрант Тимофей Пнин посещает «The Pines» – дачу своего приятеля Кука (Кукольникова), где застает общество других русских американцев, «<…> сидящих на дачных скамейках и обсуждающих эмигрантских писателей – Бунина, Алданова, Сирина <…>»[357]. Р. Гринберг, большой поклонник творчества Набокова, откликнулся на публикацию «Пнина» письмом, в котором высказал опасение, что собирательно-шаржированный образ «влиятельного литературного критика Жоржик<а> Уранского» получился у Набокова прямолинейным и оскорбительным (В наше время такой образ, прозрачно указывающий прежде всего на Георгия Адамовича, которого Набоков называл «Содомовичем», мог бы вызвать обвинения в авторской гомофобии.) 21 апреля 1957 года Набоков пишет Гринбергу из Итаки: «Во-первых, был и другой Жоржик – Иванов, который тоже продавал свое перо за ласковое словечко или жирный обед (и хоть не брезговал дамами, пробовал и уранизм). Во-вторых, имя Адамовича будет жить столько же лет, сколько имя Бунина или Зайцева или даже Гончарова»[358]. Слова Набокова, в которых нелегко точно определить степень двойной или даже тройной иронии, заставляют еще раз задуматься о многосложности его оценки Бунина. Даже если Набоков и не считал Гончарова большим писателем, высказанный им прогноз тем не менее предвещал Бунину литературную вечность.
Наконец, отсылки к Бунину также заметны в романе Набокова «Ада, или Страсть» (1969) – этом самом длинном, сложном по композиции и языковому строю, быть может самым патологическом и в то же время самом классически-русском из американских романов писателя. Русское имя главного героя Вана Вина (Van Veen) – Иван (Ivan). Совпадение ли, что он, как и сам Бунин, родился в 1870 году[359], или же то, что имена Иван Вин и Иван Бунин связывает анаграмматизм и частичная рифмовка, особенно в привычном французском написании и произношении (Ivan Bounine)? Учитывая эти обстоятельства, а также роль, которая отведена в «Аде» поздней русской дворянской культуре, породившей Бунина и его многих литературных героев, можно предположить, что главный герой романа, который вызывал у самого автора и столь очевидную любовь, и «отвращение» («I loathe Van Veen»[360]), был последним выпадом Набокова против Бунина. О бунинском следе в «Аде» Набокова еще стоит серьезно задуматься.
В заключение мне хотелось бы подчеркнуть, что мои находки, выводы и предположения, основанные на прочтении писем, дневников и художественной прозы Бунина и Набокова, одновременно подтверждают и оспаривают не только теоретические представления формалистов, уже давно ставшие классикой культурологии, но и более современные теоретические представления о динамике литературного процесса. Я имею в виду прежде всего пленительную теорию Харольда Блума (Harold Bloom), лекции которого мне довелось слушать в Йеле, – теорию «боязни влияния» («anxiety of influence»)[361]. Оба сценария литературной истории, формалистский и блумовский, достаточно точно описывают набоковскую сторону отношений между Набоковым и Буниным. В начальный период своего творчества Набоков усвоил некоторые приемы, которые были ранее доведены до совершенства его литературным «дядей» Буниным (по-видимому, литературными «отцами» Набокова были русские символисты). Позднее, уже в американский период, Набоков предпочитал обходить вопрос о роли Бунина и культуры русской эмиграции в своем творческом становлении. В книге «Говори, память» – более позднем, расширенном варианте автобиографии, Набоков писал, обращаясь к англо-американской аудитории, что «<он> всегда предпочитал мало известные стихи <Бунина> его <…> знаменитой прозе» (Набоков ACC 5: 563). В той же книге Набоков добавил в скобках, что соотношение («interrelation») стихов и прозы Бунина напоминает творчество английского прозаика и поэта Томаса Харди (Thomas Hardy)[362] – довольно лестная похвала, особенно если она исходит от Набокова.
После смерти Бунина и до конца своей жизни Набоков продолжал отрицать влияние прозы Бунина. В письме Гринбергу от 1 января 1953 года Набоков писал: «Хочу очень вас поблагодарить за прелестный уют, который вы дали довольно скучному, нечистоплотному, не всегда трезвому человеку, играющему лишь отменно в шахматы – и автору замечательных книг (не снившихся Вельтману или Бунину). Это была шутка…»[363] Все, разумеется, гораздо сложнее, чем «шутка», путь даже набоковская. Игривый тон Набокова маскирует весьма намеренные высказывания писателя о литературе. Переводя на русский первый вариант своей автобиографии, Набоков начал отрывок о Бунине со следующих слов: «Книги Бунина я любил в отрочестве, а позже предпочитал его удивительные струящиеся стихи той парчовой прозе, которой он был знаменит» (Набоков РСС 5: 318; ср. Набоков 1990, 4: 288).
Ознакомительная версия.
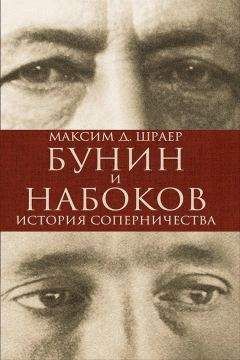




![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)