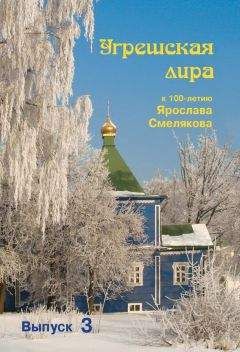Таким я увидел русское горе еще в 1964 году на берегу Иссык-Куля, в центре Азии.
Я, как мог, выразил смутную тревогу о русской судьбе, слишком далеко оторвавшейся от своей пуповины. В одном ошибся: предположил, что горе, бедность, сиротство в чужом краю — все это "вымирающее навсегда".
Никто из нас и подумать не мог, что доживет до погромов и резни в Ошской долине, до изгнания русских врачей и учителей из киргизских городов и поселков. Но ведь это же он, Суюнбай, фронтовик, 1922 года рождения, писал стихи о русском учителе Тимофее, приехавшем из Саратова в киргизское село Арал, а я перевел его на русский язык.
С киргизской песней знался Тимофей,
душевно пел киргизские мелодии.
Он уважаем был деревней всей
за то, что прижился на новой родине.
Он сына на киргизке поженил,
а дочь его ушла в семью киргизскую,
и с той поры, конечно, весь аил
стал для него роднёю самой близкою.
Ну не во сне же все это происходило, а в жизни… В 1992 году, в год семидесятилетия Суюнбая, я послал ему письмо, в котором еще теплились последние наивные надежды на возрождение нашего литературного братства.
"Дорогой мой друг!
Протягиваю тебе руку через всю нашу несчастную разоренную страну, через пространства, насыщенные запахом крови невинных людей, через все границы и суверенитеты, через унижения и соблазны, витающие в воздухе густым маревом…
Не за такую жизнь ты, солдат Великой Отечественной, ныне оболганной, как и все святое, проливал свою кровь на полях Украины и России, не о такой расчлененной и полумертвой Державе думал ты, разговаривая в окопах с латышом Петерсонисом, или с рязанцем Яшкой, или с казахом Минбаем — подлинными героями твоих стихотворений… Не о таком будущем думал ты, когда тебя после тяжелейших ранений возвращали к жизни руки сначала русской, а потом грузинской сестры милосердия…
Я вспоминаю наши встречи и разговоры на горячих берегах Иссык-Куля, в Таласской долине — родном твоем гнездовье, в Москве и в Пскове… Да не счесть всех наших встреч за тридцать лет дружбы, начиная с того дня, когда мы встретились и ты пригласил меня в Киргизию на праздники великого Токтогула… Сколько воды утекло с тех пор!.. И кто мог подумать, что мы доживем до такого черного дня, когда будем жить в разных государствах! Но вопреки всему напряжем нашу волю, распахнем сердца и докажем людям, что пока мы живы — есть нечто более сильное и властное, чем замыслы честолюбцев, митинговые вопли обманутой черни, проекты властителей мира относительно нашей родины… Есть наша дружба, есть наша поэтическая перекличка — и пока живы эти чувства, жива надежда на то, что еще вернутся лучшие времена и мы еще обнимемся и послушаем новые стихи, которые мы напишем, сопротивляясь расчленяющей нас силе. Да, мы слабые смертные люди. Но души наши бессмертны и живут в наших стихах.
Прекрасны вечера в аиле,
когда из синеватой мглы
выходит месяц в юной силе,
вонзаясь в краешек скалы…
Помню, как на твоей родине мы любовались этим серебряным месяцем.
Знаю, как тяжело тебе сегодня, старый солдат. Ты, один из лучших поэтов своей земли, никогда не гнался за званиями, наградами, орденами, премиями, должностями… Ты беззлобно и спокойно смотрел на собратьев, зараженных тщеславием, и с достоинством крестьянина и солдата продолжал свое дело. А я, когда переводил твои стихи на русский язык, радовался на тебя: не разменивает свою душу на мелочи мой друг!
Выстоял ты и дожил до своего серьезного юбилея. Много ли теперь надо поэту? И много и мало. Но главное — остаться верным в наше подлое время самому себе и всему лучшему, что есть в народе. Самое время настало — в тот отрезок жизни, когда твоя голова стала белой, как тянъ-шанъская вершина, опереться на выработанные всей жизнью терпенье и мудрость, на любовь к истине и сказать самые главные слова, чтобы они стали завещанием грядущим поколениям твоего племени.
Твой русский брат
Но это письмо уже было посланием в прошлое…
* * *
Я никогда не переводил только ради денег. Дело в том, что после первых же моих переводческих опытов меня буквально завалили знакомствами, звонками, предложениями приехать куда моей душе было угодно — в Тбилиси, в Ереван, во Фрунзе, познакомиться с местными поэтами или переводить покойных классиков — Лахути, Токтогула, Галактиона Табидзе, жить на всем готовом в местных Домах творчества или на правительственных дачах. Но нельзя было покупаться на эти соблазны и хвататься, как всяческие корыстные дельцы и рифмоплеты, за любую конъюнктурную, многострочную и высокооплачиваемую работу (когда переводились книги местных секретарей и литературных генералов вроде Мирзо Турсун-заде, Иосифа Нонешвили, Емилиана Букова). Ведь рядом со мной переводами занимались Леонид Мартынов, Ярослав Смеляков, Александр Межиров, Юрий Кузнецов, Анатолий Передреев. Работать без вдохновения и удовольствия от работы я себе не позволял. Более того, я сам искал и находил молодых малоизвестных поэтов из республик (Дондока Улзытуева, Мушни Ласуриа, Шамиля Махмудова), пусть менее выгодных в смысле денег, изданий и связей для переводчика, но работа над стихами которых не иссушала сердце и собственное творчество. Мне всегда казались смешными жалобы переводчика Арсения Тарковского: "Ах, восточные переводы, как болит от вас голова". Голова может заболеть только от нелюбимой и неблагодарной работы, а я за такую не брался. В середине 70-х годов мне в руки попала поэма Николая Гуссовского, написанная латынью в начале шестнадцатого века. Автора считают своим и литовцы, и поляки, и белорусы. Поэма настолько восхитила меня, что я не пожалел ни сил, ни времени, чтобы перевести ее на русский язык просто ради удовольствия, не заручившись ничьим согласием на ее издание. Но оказалось, что в те прагматические времена рассказ о жизни и охоте в беловежских лесах оказался никому не нужным. Все центральные издательства отказались от издания. Четверть века поэма пролежала в моем архиве, и лишь в 1998 году "Песня о зубре" наконец-то увидела свет в другой стране — в Белоруссии. До сих пор я помню наизусть отрывки из нее, как и наиболее дорогие для меня стихотворения из многих переведенных мною книг. Впрочем, их — а переводами я занимался всего лишь лет десять — было не так уж много. Но мой добросовестный подход к делу всегда находил благодарное признание.
Я говорю не о почетных званиях, грамотах и наградах: книги моих избранных переводов за это десятилетие были изданы на русском языке в Грузии, Киргизии, Таджикистане, Абхазии. Многие мои "соавторы" из республик стали моими настоящими друзьями.
Некоторые остались ими до сих пор. Среди них абхазский поэт Мушни Ласуриа, который четверть века тому назад писал мне: "Ты для меня больше, чем друг, в Москве ты очень часто заменял мне Родину, то есть был для меня тем миром, в котором я чувствовал тепло, доброту, улыбку и человечность". Иных (только деловых) отношений я просто не признавал…
…Сто с лишним лет назад Достоевский в своей пророческой речи о Пушкине назвал русского человека всечеловеком, а русскую идею — Всечеловечностью. Он обошелся без слова "интернационализм" и нашел родное нам определение этого сложнейшего миропонимания. И когда я переводил талантливого поэта из какой-либо республики, то я как бы работал на "всечеловечность", стараясь нащупать сердцевину национального бытия — грузинского, бурятского, татарского. Переводя Дондока Улзытуева, я погружался в мир кочевых дымов, плавных забайкальских холмов, степных запахов травы Ая Ганга, которая на поверку оборачивалась всего-навсего обыкновенной полынью… Но слово "Ая Ганга" звучало для меня как заветный символ бурятской души, рожденной на просторах, где пасутся отары овец и гуляют на вольной воле табуны лошадей.
Литературное познание мира обычно сливалось для меня в одно целое с моим образом жизни, когда в течение четырех лет, с 1968-го по 1971 год, я бродил с геологами по высокогорным тропам, глядел на голубые, сверкающие стремнины — Ягноба, Хонако, Кафирнигана, где плескалась форель, куда со звоном срывались истертые подковы моих лошадей, где я на скалистых прижимах встречался с таджикскими детишками, погоняющими осликов, нагруженных охапками хвороста.
Здесь синие реки гремят
в сверкающих мрамором руслах
и смуглые дети глядят
внимательным взором на русских…
Но я тоже внимательно вглядывался в их лица. Народы, по словам отца Сергия Булгакова, "суть мысли Божий", а что может быть привлекательней желания попытаться познать мысль Творца…