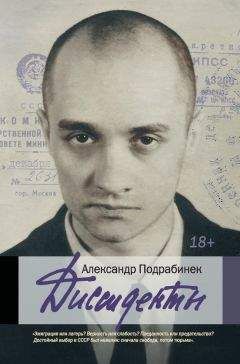В 1669 году были изданы «Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах», в которых впервые упоминается о неответственности психически больных за убийства и о невозможности привлечения их в качестве свидетелей — «аще... бесный убьет кого, не повинен есть смерти»[9].
Но еще за 18 лет до этого, в 1651 году, произошел случай, в котором была применена первая (из нам известных) судебно-психиатрическая экспертиза по политическому делу. Из истории известно про некоего Микифорку Иглина, который в кабаке города Рыльска «про Государя непригожее слово говорил». По этому делу было опрошено семьсот (!) свидетелей, которые показали, что Иглин «в уме рушился». Иглин был признан невменяемым душевнобольным, вследствие чего смертная казнь, положенная ему по закону, была заменена телесным наказанием[10].
К сожалению, случаи применения в юридической практике «Новоуказных статей» до нас не дошли.
Первым законодательным актом в отношении судебно-психиатрической экспертизы стал Указ Петра I с несколько, на наш взгляд, двусмысленным названием «О свидетельствовании дураков в Сенате». В соответствии с этим указом, в Сенате проводились освидетельствования дворян, уклонявшихся от военной и государственной службы. (С 1815 года освидетельствования стали проводиться в губернских центрах.)
По Указу Екатерины II, в 1773 году в каждой губернии было выделено по два монастыря (мужской и женский) для психически больных.
В 1776 году открываются дома для умалишенных в Новгороде, Екатеринославле и Харькове; в 1806 году — в Ровнах (Полтавской губернии); в 1852 году — в Симферополе, Херсоне, Одессе; наконец, 1-го июня 1869 года открывается Казанская окружная психиатрическая лечебница, часть ее — ныне знаменитый Казанский «спец».
Принцип неподсудности психически больных начал укрепляться в российской юридической практике с начала XIX века. Известен указ императора Александра I калужскому губернатору Лопухину: «На помешанных нет ни суда, ни закона» (1802 год). В проекте Уложения о наказаниях (1813 год) появляется статья :«Не вменяется в вину деяние, совершенное в безумии или сумасшествии...». Этими положениями было заложено начало института принудительного лечения, ибо, признав ненаказуемость психически больных, закон не оставлял общество без защиты от них.
После реформ 60-х годов XIX века с развитием земской медицины заметно возросли объем и качество психиатрической помощи населению. Правительство из государственного бюджета выделяло средства на строительство окружных психиатрических больниц. С развитием общей психиатрической помощи получил развитие и институт судебной психиатрии. В послереформенном суде, основанном на гласности, устности и состязательности судопроизводства, стало обязательным проведение в соответствующих случаях судебно-психиатрических экспертиз. Эксперт-психиатр представлял суду свое заключение («скорбный лист»), но суд мог с ним и не согласиться. Это давало возможность суду (хотя и более демократичному, чем советский) действовать, исходя из интересов политики, а не справедливости. Однако мы не располагаем достоверной информацией о признании послереформенным судом здоровых людей психически больными из политических соображений. Конечно, отсутствие подобных прецедентов не означало полной согласованности правовых норм с практикой принудительного лечения. Вопрос о правовых аспектах принудительной госпитализации и правах психически больных поднимался, например, В.М. Гаккебушем на I съезде Русского союза психиатров и невропатологов, проходившем в Москве в 1911 году[11].
В дореформенный период известен случай с известным русским мыслителем Петром Яковлевичем Чаадаевым (1794-1856 гг.). После публикации в 1836 г. в «Телескопе» его первого «Философического письма» он был официально объявлен сумасшедшим[12].
«Чаадаевская история» произвела в свое время много шума. «Философическое письмо» было расценено властями как произведение антипатриотическое, направленное против складывавшихся тогда концепций официальной народности. По словам С.С. Уварова, оно «дышит нелепою ненавистью к отечеству и наполнено ложными и оскорбительными понятиями, как насчет прошедшего, так и насчет настоящего и будущего существования государства»[13].
Император Николай I, прочитав «Философическое письмо», наложил на докладе Уварова резолюцию, где в числе прочего сказано: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной безсмыслицы, достойной умалишенного...».
Исполнительная власть в лице шефа жандармов графа Бенкендорфа не замедлила всеподданнейше отреагировать на Высочайшее замечание.
Вот что пишет шеф жандармов московскому военному генерал-губернатору князю Голицыну: «В последневышедшем номере журнала „Телескоп“ помещена статья под названием „Философические письма“, коей сочинитель есть живущий в Москве г. Чеодаев, — перевирает Бенкендорф фамилию „преступника“. — Статья сия, конечно, уже Вашему Сиятельству известная, возбудила в жителях московских всеобщее удивление. В ней говорится о России, о народе русском, его понятиях, вере и истории с таким презрением, что непонятно даже, каким образом русский мог унизить себя до такой степени, чтоб нечто подобное написать. Но жители древней нашей столицы, всегда отличающиеся чистым, здравым смыслом и будучи преисполнены чувством достоинства Русского Народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и потому, — как дошли сюда слухи, — не только не обратили своего негодования против г. Чеодаева, но, напротив, изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей. Здесь получены сведения, что чувство сострадания о несчастном положении г. Чеодаева единодушно разделяется всею московскою публикою. Вследствие сего Государю Императору угодно, чтобы Ваше Сиятельство, по долгу звания вашего, приняли надлежащие меры в оказании г. Чеодаеву всевозможных попечений и медицинских пособий...»[14]
«Очень хорошо», — написал Николай I на этом документе.
Да, демагогия и ложь — непременные спутники обеих диктатур: и автократических, и тоталитарных. Откуда графу стало известно о таком «единодушном» мнении всей московской публики? Плебисцит-то он не проводил! Такие люди, как А. Пушкин, А. Герцен, В. Белинский не посчитали Чаадаева сумасшедшим.
Схожесть социальных структур монархизма и коммунизма в этом случае очевидна. Все та же безапелляционность, уверенность в своей правоте (по праву силы), презрение к инакомыслящим и осуждение их. Все то же злоупотребление именем народа или общества, убежденность в здравомыслии трусости.
Заслуживает интереса и судьба Е.Д. Пановой, корреспондентки и доброй знакомой П.Я. Чаадаева. После опубликования чаадаевской работы ее имя было скомпрометировано в глазах многих людей ее круга и среди чиновников правительственной власти. Семейные конфликты усугубили ее и без того шаткое положение. «В конце 1836 года московское губернское правление, по просьбе мужа, свидетельствовало умственные способности Пановой и... признало ее ненормальной и присудило поместить в лечебное заведение, как о том ходатайствовал ее муж»[15].
Так, по воспоминаниям современников и биографов Чаадаева, психически вполне здоровая женщина попала в психиатрическую больницу единственно за то, что была знакома с одним из талантливейших людей России.
При Александре I был официально объявлен сумасшедшим за сочинение вольнолюбивых стихов юнкер Жуков[16].
Незадолго до «Чаадаевской истории» сенат рассмотрел дело М. Кологривова, участвовавшего в июльской революции во Франции в 1830 году. Решено было, что Кологривов «поступал как безумный и, как безумный, должен быть наказан»[17].
Известно высказывание императора Николая I в 1837 году по поводу М.Ю. Лермонтова и его стихотворения «На смерть поэта»: «Приятные стихи, нечего сказать; я послал Веймара в Царское Село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружатся еще другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он; затем мы поступим с ним согласно закону.» Однако Лермонтова сумасшедшим объявить уже не рискнули.
В дореволюционной России случаи признания здоровых людей больными в политических целях не приняли систематического характера. Мы не выступаем в защиту автократической власти, но справедливости ради следует отметить, что систематического использования средств судебной психиатрии в политической борьбе в дореволюционной России не было.