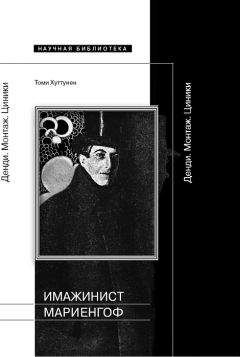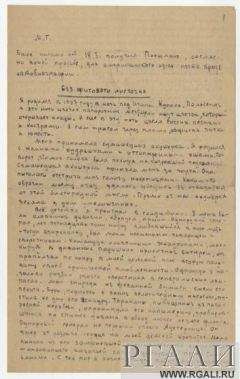При попытках найти смысл самоопределения имажинизма существенным является то, о чем имажинисты не пишут и какие формы письма для них неприемлемы. Как утверждает Шершеневич, «возвещая внешне правильные поэтические лозунги, имажинисты на каждом шагу оказывались в положении клоуна, который все делает наоборот».[32] Здесь скрыт, как нам кажется, некий концептуальный ключ к пониманию процесса становления имажинистской школы. Дендизм, воспринятый как некая патологическая инакость, необходимое отличие, отторжение всего окружающего, встречающегося ей в прошлом, настоящем и возможном будущем, характеризует, по нашему мнению, и письмо и быт имажинистской группы. Стоит, однако, отметить, что сам имажинистский дендизм — следствие «арлекинадного идеализма», который, в отличие от декадентского, усваивается, чтобы уничтожить устаревшие идеи предшественников. Это своего рода отцовская одежда, надетая для отцеубийства. Дендизм имажинизма не столько «продуманная жизненная программа, призванная создать образ человека со вкусом и отточенными мужественными манерами, покорителя дамских сердец»,[33] сколько знак самоутверждения литературной группы среди других авангардистских течений эпохи их становления и выработки манифестов. «Отточенные» манеры превращаются в поверхностную шутливую симуляцию гомосексуальности (Есенин и Мариенгоф) и гипермаскулинную поэзию (Шершеневич).[34] Однако черты «продуманной жизненной программы», сознательно выстраиваемой покорителями сердец читающей революционной публики, тоже весьма заметны в имажинистской деятельности. В свете бытового, сугубо нарциссического дендизма имажинистов[35] их программа создает впечатление нарочитой риторики ради самой декларации. В этом нет ничего неожиданного, если рассматривать соотношение текста и метатекста в истории русского авангарда как последовательное движение от символистической теории поэзии к манифестам таких «малых» течений, как, например, русский экспрессионизм, который, несмотря на свою широкую известность в европейской традиции, в контексте русской литературы, в отличие от живописи, представляется маргинальным явлением.[36] Для имажинистов манифесты — причем, как правило, весьма шумные — жизненно необходимы. Однако, вопреки «коммунальному» характеру их литературного быта, ответ на вопрос об имажинистских идеях следует искать в индивидуальных предпочтениях конкретных представителей этой группы.
Пытаясь истолковать роль имажинизма в ряду других литературных группировок раннесоветской эпохи, поэт-символист и постоянный критик поэзии представителей этого направления Валерий Брюсов в своем описании литературной ситуации 1917–1922 годов обращает внимание на отрицание ими «идейности». Он останавливается на двух доминантах имажинистских манифестов, антиидейности и дифференциации разных видов искусства. При этом он приписывает имажинистам «свое» l'art pour l'art: «Имажинисты делали вывод: если сущность поэзии — образ, то для нее второстепенное дело не только звуковой строй <… > не только ритмичность и т. п., но и идейность: „музыка — композиторам, идеи — философам, политические вопросы — экономистам, — говорили имажинисты, — а поэтам — образы и только образы“. Разумеется, на практике осуществить такое разделение было невозможно, но теоретически имажинисты на нем настаивали. Понятно, что, чуждаясь вообще идейности, имажинисты отвергали и связь поэзии с общественной жизнью, в частности — отрицали поэзию как выразительницу революционных идей».[37] Антиидейность имажинистов отражается в их привычке усваивать и распространять лозунги, вызывающие декларации и слова. Причем декларации имажинизма следует, как нам кажется, рассматривать скорее на уровне словесных формул, чем на уровне идей. Это вытекает из их бунтарства: имажинисты индивидуалисты, потому что футуристы — коллективисты.
В книге «2x2=5» Шершеневич писал (1920), что имажинизм представляет собой индивидуализм в эпоху коллективизма, тогда как футуризм — несмотря на декларирование индивидуализма — является коллективистским искусством. Согласно Шершеневичу, футуризм перестал быть революционным и превратился в консервативное течение: «Эпоха господства индивидуализма в государственном масштабе неизменно вызывает в искусстве коллективизм. Это мы видим хотя бы на примере футуризма, который, несмотря на свои индивидуалистические выкрики („гвоздь у меня в сапоге кошмарнее, чем Гете“ (sic!)), все же является по природе, по замыслу, коллективистическим. Наоборот, в эпоху государственного коммунизма должно родиться в искусстве такое индивидуалистическое течение, как имажинизм».[38] Действительно, для имажинистов, при всей театральности их группового поведения (в особенности это касается знаменитых эпатажных выходок), культивировать индивидуализм в эпоху коллективизма естественно, если не необходимо. Далее Шершеневич сопоставляет «идеалистический» имажинистский индивидуализм и «обывательский» индивидуализм русских символистов. Разница между ними подобна различиям между материальной и духовной революцией: последняя следует за первой. Эти мысли восходят к бодлеровским представлениям об индивидуалисте-вуайеристе, потерявшемся в городской толпе, о раздробленной городом душе: «Современный индивидуалист выходит на площадь, смешивается с толпой, разбрасывает в толпный шум эти обрывки, становится нищ духом (содержанием) и наполняется чем-то „от города“ (форма) <…>. Однако не только в терянии сущность нового пути; его смысл главным образом в способности автоматически воспроизвести форму теряния».[39]
В сопоставлении имажинистского революционного индивидуализма с футуристским консервативным коллективизмом и, с другой стороны, с символистским «обывательским» индивидуализмом много симптоматичного. Шершеневич определяет имажинизм как нечто «иное» по отношению ко всем другим литературным течениям. Тут, по словам Михаила Кузмина, заметен «бунт индивидуального вкуса против нивелировки и тирании моды»,[40] т. е. дендизм в трактовке Уайльда[41] и д'Оревильи. Однако, как это ни парадоксально, Кузмин видит в этом индивидуалистическом протесте против моды. отзвуки моды, «уже имевшей прецеденты в итальянском ренессансе, где все одеты по-разному, ни один человек не хочет быть похожим на другого и даже одна нога стремится разниться от другой цветом».[42] Действительно, разнонаправленная конфликтность и патологическая эпатажная инакость имажинизма, отрицание господствующей моды также оказываются, по нашему мнению, своего рода модой, где никто «не хочет быть похожим на другого». Индивидуализм Шершеневича, как и другие идеи или, скорее, антиидеи имажинистских деклараций, надо соотносить именно с этой установкой. Само отсутствие идейности, подчеркнутое Брюсовым, таким образом, становится ключевым, естественным стимулом имажинистов-поэтов и в литературном творчестве, и в бытовом поведении. Любопытно, как А. Беленсон характеризует в своем обзоре книг стихов Мариенгофа и Шершеневича этих двух поэтов одновременно: «Бедный нищий поэт, зараженный страшной болезнью — лошадиным дэндизмом! Это она, ужасная болезнь, заставляет вас эстетствовать в духе дурной цыганщины и — доэстетствоваться до положения какой-то антисанитарной бумаги в Российском коммунистическом обществе».[43]
Культ индивидуализма[44] и последовательный отказ от господствующих ценностей доведены до критического предела в статье Шершеневича «Искусство и государство» (1919). Имажинисты объявляются здесь анархистами, которые рады тому, что государство их не признает: «Искусство не может свободно развиваться в рамках государства <…> как только искусство будет отделено от государства, одно из течений возьмет в свои руки власть и будет диктатором <…>. Мы — имажинисты — группа анархистического искусства — с самого начала не заигрывали со слоновьей нежностью с термином, что мы пролетарское творчество, не становились на задние лапки перед государством. Государство нас не признает, и слава Богу! Мы открыто кидаем свой лозунг: Долой государство! Да здравствует отделение государства от искусства!<…> Да здравствует диктатура имажинизма! Под наши знамена — анархического имажинизма — мы зовем всю молодежь, сильную и бодрую».[45] Как впоследствии вспоминал Шершеневич, данный лозунг был полемическим приемом, направленным против футуристов, которые претендовали на государственный статус собственного искусства. В сложившейся ситуации имажинистам не оставалось ничего иного, кроме как провозгласить анархистский лозунг безгосударственности. На поэтических вечерах имажинисты неизменно декларировали самостийность искусства, организовывали громкие акции. Одной из наиболее шумных стала «всеобщая мобилизация» в защиту левого искусства, демонстрация с целью отделения его от государства. Афиши о «мобилизации» были расклеены по всей Москве и произвели переполох среди обывателей. В результате имажинистов вызвали для объяснений (не в первый и не в последний раз) в МЧК, после чего им пришлось отменить свою несанкционированную демонстрацию.[46] Действительно, имажинистов трудно упрекнуть в конформизме. На это еще в 1924 году обратил внимание М. Осоргин, отметивший, что, когда большинство поэтов в СССР, которые поддерживают власть, «пошли прислуживаться писаньем транспортных стихов, декретовых басен и лозунгов для завертывания мыла», имажинисты ни в чем подобном не участвовали. Они оставили за собой право писать и говорить что хочется: «С полнейшим и открытым отрицанием относились имажинисты и к «пролетаризации» литературы, к приданию ей классового характера».[47]