Конечно, мы были знакомы еще в Ленинграде. Он учился на филфаке, я — на факультете журналистики, но у нас была одна компания. В ней же тогда вращался и Андрей Арьев, и Леня Мак, который впоследствии осел на Би-би-си, и еще огромное количество студентов ЛГУ и других институтов, а также их друзей и знакомых. У нас были общие интересы, в частности то, что все мы пробовали писать рассказы. Тогда казалось, что Сережа из нас никак не выделяется, и предугадать его будущий успех и известность было совершенно невозможно.
Мы быстро проскочили невзрачные северо-западные окраины Ленинграда. Далее следовали однообразные поселки, бедноватая зелень и медленно текущие речки. У переезда Гришаня затормозил, распахнул дверцу и направился в кусты. На ходу он деловито расстегивал ширинку, как человек, пренебрегающий условностями.
— Чего он такой мрачный? — спрашиваю.
Шаблинский ответил:
— Он не мрачный. Он под следствием. Если не ошибаюсь, там фигурирует взятка.
— Он что, кому-то взятку дал?
— Не идеализируй Гришу. Гриша не давал, а брал. Причем в неограниченном количестве. И вот теперь он под следствием. Уже подписку взяли о невыезде.
— Как же он выехал?
— Откуда?
— Из Ленинграда.
— Он дал подписку в Таллинне.
— Как же он выехал из Таллинна?
— Очень просто. Сел в машину и поехал. Грише уже нечего терять. Его скоро арестуют.
(Сергей Довлатов, «Компромисс»)Михаил Рогинский:
Человека, который нас якобы вез, я встретил, как это ни странно, несколько дней назад, а не видел я его лет тридцать. Имеется в виду Коля Гришин, которого многие из нас знали еще по университету: он тогда был очень известным пловцом. Конечно, никуда он нас не вез, а Сережа приехал в Таллинн один и на поезде.
Очень многие люди в Таллинне остались на него обиженными за то, что он поместил их в свое повествование, приписав им то, чего не было на самом деле. Я думаю, Сережа им ничего не приписывал: он просто вспомнил знакомые фамилии и вставил их в книгу. У меня, конечно, нет никаких оснований на него обижаться хотя бы потому, что он изменил мою фамилию: я у него выступаю под очаровательной фамилией «Шаблинский». Но даже если бы он ее и оставил, я его понимаю. Я его понимаю как друга, как человека, с которым провел вместе десятки часов в разговорах, с которым я пережил огромное количество самых разных ситуаций. Но люди, у которых нет таких воспоминаний, воспринимают свое невольное участие в довлатовском мире болезненно. Мне кажется, очень важно понять, что Сережа почти никогда ничего не описывал так, как это было на самом деле. Того, что он написал, не было и не могло быть, потому что была жизнь, а получилась литература.
Секрет такого успеха был мне долгое время неясен. Затем я понял, в чем дело. Шаблинский убивал недвусмысленностью своих посягательств. Объявил, например, практикантке из Литвы, с которой был едва знаком:
— Я вас люблю. И даже возможный триппер меня не остановит.
Как-то говорю ему:
— Мишка, я не ханжа. Но у тебя четыре дамы. Скоро Новый год. Не можешь же ты пригласить всех четверых.
— Почему? — спросил Шаблинский.
— Будет скандал.
— Не исключено, — задумался он.
— Так как же?
Шаблинский подумал, вздохнул и сказал:
— Если бы ты знал, какая это серьезная проблема…
(Сергей Довлатов, «Компромисс»)Тамара Зибунова:
Мы с Сережей познакомились в Ленинграде незадолго до его приезда в Таллинн. Случайно встретились в какой-то компании, я даже толком его не запомнила… Через два-три месяца звонок: «Здравствуйте, Тамара! Может быть, вы меня не помните, я Сергей Довлатов. Приехал в Таллинн, звоню знакомым, и никто не отвечает. Мне негде ночевать». Как можно было ему отказать? Он сказал, что находится на Балтийском вокзале. Я ответила, что встречу его, и спросила, как его можно узнать. «Я похож на торговца урюком», — говорит. Так Сережа поселился в моем доме. Он просто остался и не думал уходить. Рогинский его уговаривал: «Ты что, Тамарка нищая! Я тебе богатую найду». Прошел месяц… Мы подружились — так возник странный, дружеский роман.
Сергей Боговский:
Атмосфера русского Таллинна тогда, как и сейчас, была довольно убогой. Здесь, в отличие, например, от Риги, никогда не было критической массы интеллигентных людей. Были, конечно, отдельные интересные люди, была определенная окололитературная публика, но никакие серьезные выдающиеся писатели здесь не жили.
Существует миф об Эстонии как о своеобразном советском центре интеллектуальной мысли, который прежде всего связывают с городом Тарту. На самом деле, там была такая же ситуация, как и в Таллинне, если не хуже. Конечно, в Тарту преподавал Лотман, а вокруг него был некий круг талантливых филологов, но этим продвинутость этого города и ограничивалась.
Хотя есть в эстонской ментальности одна чудесная черта, которую живущие здесь русские постепенно перенимают. Это тяга к приватности. Здесь никто никого не учит жить. Всем на всех наплевать, если хотите. Каждый живет сам по себе. Идешь по городу и точно знаешь, что никто к тебе не пристанет по поводу нелепой шляпы или очков, никто не будет комментировать то, что ты куришь. В России тогда это было сплошь и рядом. Я думаю, Сергей очень устал от этого, от того, что постоянно кто-то вмешивается в его личную жизнь. Многим москвичам и ленинградцам импонировала наша внутренняя приватность. Они приезжали пожить спокойно.
Тамара Зибунова:
Первое Сережино официальное место работы — кочегарка. Там он продержался полтора месяца, а потом его пригласили в газету Эстонского морского пароходства «Моряк Эстонии». Месяцев девять, наверное, Сережа проработал ответственным секретарем, получил прописку. Его друзья-журналисты, Миша Рогинский и Виталий Репецкий, помогли получить внештатную работу. Через некоторое время Довлатова пригласили в «Советскую Эстонию» в отдел информации.
Я обошел все таллиннские редакции. Договорился о внештатной работе. Взял интервью у какого-то слесаря. Написал репортаж с промышленной выставки. Попросил у Шаблинского двадцать рублей в счет будущих гонораров. Голодная смерть отодвинулась.
Более того, я даже преуспел. Если в Ленинграде меня считали рядовым журналистом, то здесь я был почти корифеем. Мне поручали все более ответственные задания. Я писал о книжных и театральных новинках, вел еженедельную рубрику «Другое мнение», сочинял фельетоны. А фельетоны, как известно, самый дефицитный жанр в газете. Короче, я довольно быстро пошел в гору.
(Сергей Довлатов, «Ремесло»)Михаил Рогинский:
Когда Сережу брали на работу в нашу газету, Генрих Францевич меня вызвал и спросил, могу ли я за него поручиться. Я сразу ответил: «Бесспорно». И дело даже не в том, что Сережа был мой друг: в тот момент я был с Туронком честен. Я был совершенно уверен, что Сережа будет работать в соответствии с ситуацией и играть по правилам. Я знал, что ему хватит ума не пропагандировать какие-то антиправительственные идеи в республиканской партийной газете. Если бы кто-то принес в редакцию антисоветскую статью, ему бы даже ничего за это не было. Вероятнее всего, над ним бы просто посмеялись.
Борис Ройтблат:
Про идеологию — применительно к Довлатову — говорить нет смысла. Он был от этого безнадежно далек. Однако не могу сказать, что в редакции он работал только ради денег. Это не так. Репортерскую работу, в лучшем смысле этого слова, он любил. Он писал о том, как нашли старинный клад, как лечили простуженного тигра, и все такое. С таким же успехом он мог писать это и для «Нью-Йорк таймс» — и там опубликовали бы. В пропаганду бессмертных идей Довлатова не вмешивали. Знали, все равно бесполезно. В редакции тогда было по-своему золотое время. Штатных бездарей, как и нештатных стукачей, терпели. Писать крамолу, конечно, не давали, да никто и не порывался. Но и оргвыводов за крамольные анекдоты не делали. Гати говорила так: «Тут, в редакции, можно болтать про что угодно. Но — только тут!» Довлатов этим редко пользовался. Довлатов относился к властям как аристократ — с брезгливостью. Это был не страх. Это была именно брезгливость.
(Ройтблат Б. Ноктюрн. (Памяти Сергея Довлатова) // «Новое русское слово», 22–23 августа 1998)
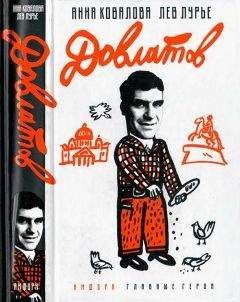
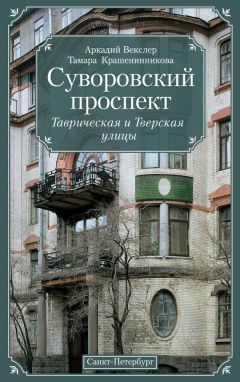


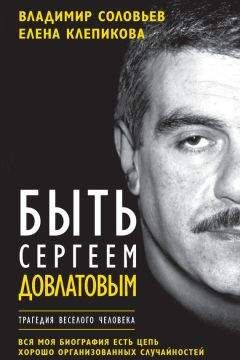
![Константин Путилин - Шеф сыскной полиции Санкт-Петербурга И.Д.Путилин. В 2-х тт. [Т. 1]](https://cdn.my-library.info/books/33302/33302.jpg)