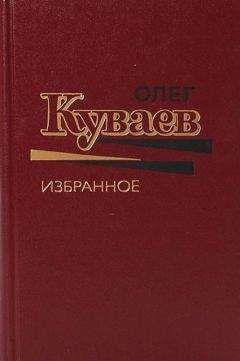Избушка его находилась в устье реки Лелювеем, в пятнадцати километрах к западу от нашей базы. Сезон охоты на песца кончился, собаки в принципе были свободны, и я, загрузив рюкзак необходимыми для переговоров предметами, отправился на лыжах к устью Лелювеема.
Тумлук, низкорослый и сутуловатый, как большинство тундровых охотников, отлично говорил по русски. Одно время он был старшиной колхозного катера, доставлявшего товары на факторию в Усть Чаун, и поэтому любил называть себя моряком. Дать собак он отказался наотрез. Это было в общем то справедливо, так как я сообщил ему, что в жизни не ездил на собаках: Ехать со мной он также не хотел, ссылаясь на занятость хозяйством. Я извлек содержимое рюкзака. Цо через час добился лишь того, что Василий Тумлук стал считать меня неплохим человеком и потому подробно объяснил, почему нельзя ехать. Мы вышли посмотреть собак. Тут даже мне стала все понятно. Это были не собаки, а кошки. Более мелких псов мне не приходилось видеть.
— Собачки устали — объяснял Василий. — Длинный сезон, все время в работе. Сейчас весна. Тяжелый снег. Длинный перегон.
Но ехать таки было надо. И где то во втором часу ночи Тумлук с этим согласился.
Мы отправились на следующий день в четыре утра, когда затвердевший за ночь снег хорошо держал нарты. Ночью стоял мороз градусов под тридцать, Васдлий запряг в нарту мелкоразмерных псов. Одиннадцатым был вожак — вовсе уж крохотный рыжий пес, величиной с таксу, с умнейшими глазами. Звали его Таракан, точнее, Таракан Иванович. Я быстро и прочно понял, что просто неприлично обращаться к нему без отчества.
Собаки суетились, когда их запрягали, и в общем то охотно шлив алык и к потягу. Но когда нарта была загружена и оставалось только выдернуть остол, упряжка, как по команде, подняла отчаянный тоскливый вопль. Ободранные собачьи лапыутяжкий труд, тысячи километров, пройденных ими в полярной ночи, — все было в этом выразительном хоре.
Неожиданно концерт кончился. Василий выдернул остол, и упряжка резко взяла с места.
Василий на ходу объяснил мне принципы управления упряжкой. "Хек", — пошел, "потьтпоть", — право, гортани ное "кхрр" — налево. Но главное в длинном маршруте — держать на потяге равномерную нагрузку. На бугор подталкивать, на спуске— тормозить,
— Давай работай, — сказал Василий. И я начал работать. Толкал нарту на заструги, бежал рядом на тяжелом участке.
— Здоровый парень, — одобрительно говорил Тумлук. — Бегаешь, как олень. А ну еще!.
Днем солнце стало припекать вовсю. Снег размок и превратился в жидкую кашу. На собак жалко было смотреть. Они работали изовсех сил, эти дворняги. И больше всех работал Таракан Иванович. Где то, еще возле избушки, он лег грудью на алык и так перебирал короткими лапами, все время усердно натягивая постромку. Точно так же с молчаливым усердием он поворачивал упряжку после команды. Беспечные собаки Тумлука признавали только бег по прямой, и Таракан Иванович напирал после команды до тех пор, пока вся упряжка не загибала в нужную сторону. Единственным рослым из собак был сумрачный Йн накели. Он был из породы короткошерстных колымских ездовых собак — лучших ездовых собак мира. Иннакели был стар. На каждой остановке он мгновенно ложился. По первому слову вставал и натягивал алык. Старость и годы работы превратили его в ездовой механизм. Безуспешно ялытался установить хоть какой то контакт с этим уважаемым псом. Он смотрел отчужденно, в белых, как у всех чистопородных колымских лаек, глазах не было, казалось, никакого выражения. —
Наступил вечер, за ним сумерки. Стало слегка подмораживать, но острова все еще не было видно. Сумерки не сгущались, так как май уже время полярного дня, но мороз крепчал не на шутку. Моя промокшая от пота кухлян
,ка затвердела и гремела, как жесть. Уставшие собаки еле тянули. Где то около двух "часов ночи мы добрались до берега, сделав за сутки девяносто километров.
Юго восточные берега острова Айон состоят из торфяных и песчаных обрывов. Обрывы уже вытаяли под солнцем обнажилась черная земля, пожухлая, прошлогодняя травка. Мы покормили собак, разожгли костер из плавника и стали коротать ночь. Видимо, оба мы были в том состоянии переутомления, когда человек не может спать. Было тихо, как только может быть тихо в заснеженной тундре, где никто не живет.
Где то под утро стало пригревать солнце и мы задремали. Собачьи лапы мелькали и мелькали у меня перед глазами. Болело все тело. Я постигал, что езда на собаках — труд, а не колоритное катанье на санках в меховой одежде.
Когда солнце поднялось выше, я решил пройтись вДоль обрывов. Море легко размывает остров Айон, и вдоль необозримого участка берега тянулся идеально ровный пляж стометровой ширины. Знаменитые ветры выгладили его — на пляже не было ни одного заструга, ни одной неровности. Искрящийся на солнце, твердый и гладкий, как паркет, снег убегал на север. Сорокаметровые торфяные обрывы были изрезаны промоинами. Дорогой и у костра мы с Тумлуком много говорили о чукотских легендах. И в какой то момент мне вдруг показалось, что в этой немыслимой тишине, в слепящем сверкании снега, в безлюдье из расщелины возьмет и выйдет мохнатый чукотский келе, и это будет не более необычным, чем, допустим, встретить знакомого на московской улице. Когда возможность этой чепухи стала казаться мне совершенно реальной", я повернул назад и принялся строить тур, чтобы закрепить на местности конечную точку наблюдения.
В обратную дорогу мы решили пуститься ночью, как только подморозит. Этот маршрут был еще длинее — около ста десяти километров. Собаки съели всю панку. Тумлук что то ворчал по чукотски и озабоченно качал головой.:
Ночь выдалась теплой, снег почти не замерз. Мы не могли остановиться на передышку из за особенности рейсов с гравиметром, которые должны продолжаться без пе
? Панка— корм для собак из смеси муки и тюленьего жира.
рерыва от начального до конечного пункта. В противном случае наблюдения будут забракованы, хотя я не претендовал (й не мог претендовать) на высокую точность. Это была, первая геофизическая информация, получаемая на территории Чаунской губы, и она имела неоспоримую ценность даже при небольшой точности данных.
Тумлук как-то упал духом или просто устал: все-таки ему было больше пятидесяти. Я вообще удивлялся выносливости, которая таилась в его маленьком, сухом теле. Он доверил каюрить мне, а сам уселся сзади за пассажира. Ну что ж, сбывалась; мечта: я вел собачью упряжку по полярным льдам. Наверно, собаки, как и лошади, понимают, когда ими управляет новичок. Во всяком случае, они через полчаса перевернули нарту. Все дело было в тюленях. На весеннем льду губы то и дело виднелись греющиеся на солнце нерпы. Они лежали у лунок черными запятыми. В бинокль было видно, что спящая нерпа, как автомат, через равные интервалы времени поднимает голову, озирается и снова роняет ее на лед в блаженном сне. Другие, выспав, шиеся, лежали на спине, похлопывали от удовольствия хво стом и ластами, переворачивались. Стоял безветренный день, майское солнце сжигало кожу. Я снял кухлянку и бежал рядом с нартой в одной ковбойке. Откудао сбоку пронесся легкий порыв ветра. В тот же момент вся стая взвыла, рванула в сторону, и я очутился на снегу. Упряжка рвалась вперед, а сзади, уцепившись за нарты, тащился по снегу Тумлук.
— Запах услышали, — сказал он. — Нерпа!
Снова началась монотонная езда. Через час все повторилось. И снова Тумлук успел уцепиться за нарту, пока я барахтался на снегу.
— Не зевай, — опять сказал Тумлук. — Убежать могут. — И тут он увидел свое ружье. Одностволка лежала на нартах, при рывке ствол высунулся, зацепил за лед, и его согнуло. Тумлук просто взвыл от ярости. Он осыпал меня ругательствами на русском, чукотском и эскимосском языках. Собаки остановились, уселись на снег и, видно, забыв про усталость, с искренним любопытством наблюдали за нами. Наконец Тумлук выдохся.
— Не умеешь — не садись, — сказал он и прогнал меня в задний конец нарты. Через полчаса он все-таки вспомнил, как хорошо сидеть пассажиром, и миролюбиво спросил:
— Инженер?
— Инженер, — с горечью признался я.
— Значит ружье выправишь, — сказал Тумлук и отдал мне остол.
Этот затяжной беспрерывный рейс продолжался около тридцати часов. После него собаки и мы два дня отлеживались и откармливались. Аня, жена Тумлука, кормила нас рыбьими брюшками, собак — обильно сдобренной жиром паНкой. Нерпичьим жиром я мазал лицо, которое обгорело на весеннем солнце и воспалилось.
Через два дня Тумлук сдал, мне в аренду упряжку из шести собак, нарту, немного корма, подарил кухлянку, и я начал работать самостоятельно, без каюра, решив сделать как можно больше маршрутов, Пока держится лед на губе.
Во время поездки к устью золотоносной реки Ичувеем случилась история, которая могла плохо кончиться, если бы не Таракан Иванович.