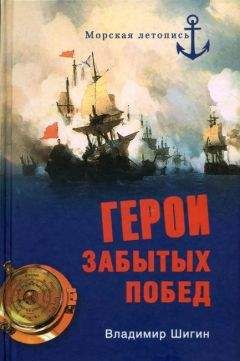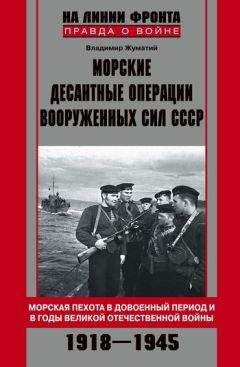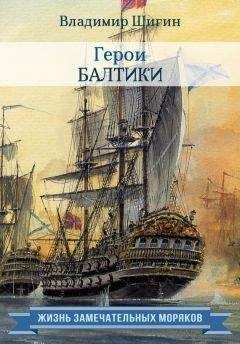На другой день, 27-го, помаленьку я начал сбираться в дорогу, когда явился ко мне курьер с приглашением Алексея Самойловича и Юлии Михайловны пожаловать к ним на вечер, бал и маскарад 28 числа. Мне следовало бы отказаться, во-первых, потому, что это был день кончины отца моего, во-вторых, что я два лишних дня должен был потерять в пути; но мне не хотелось невниманием платить за учтивость, да и любопытство увидеть николаевское общество во всём его блеске взяло верх над долгом. Дней за десять перед тем видел я одесское, но не мог судить о великой разнице между ними, не будучи ни с кем знаком. Мужчины несколько пожилые и степенные, равно как и барыни их, сидели чинно в молчании; барышни же и офицерики плясали без памяти. Масок не было, а только две или три костюмированные кадрили. Женщины были все одеты очень хорошо и прилично по моде, и госпожа Юлия уверяла меня, что она всех выучила одеваться, а что до неё они казались уродами. Сама она, нарядившись будто магдебургской мещанкой, выступила сначала под покрывалом; её вёл под руку адъютант адмирала Вавилов, также одетый немецким ремесленником, который очень забавно передразнивал их и коверкал русский язык. На лице Грейга не было видно ни удовольствия, ни скуки, и он прехладнокровно расхаживал, мало с кем вступая в разговоры. Сильно возбудил во мне удивление своим присутствием один человек в капуцинском платье; он был не наряженный, а настоящий капуцин с бородой, отец Мартин, католический капеллан черноморского флота, который, как мне сказывали после, тайно венчал Грейга с Юлией. Оттого при всех случаях старалась она выставлять его живым доказательством её христианства и законности её брака; только странно было видеть монаха на бале…»
Здесь следует сделать некоторое уточнение. Так как капелланов на Черноморском православном флоте не существовало, то, скорее всего, венчание протестанта Грейга с недавно обращённой в православие Лией происходило по протестантскому обряду в николаевской протестантской церкви, не имеющей никакого отношения к флоту. Информации Вигеля относительно вероисповедания жены Грейга противоречит ряд других исследователей, которые считают, что Лия-Юлия не желала принимать ни православия, ни становиться протестанткой, оставаясь в иудействе, а поэтому венчание адмирала с девицей было невозможно, и она считалась только гражданской женой Грейга. О том, что Лия-Юлия была именно гражданской женой Грейга, пишет в своих письмах и адмирал Лазарев.
Высшая аристократия, разумеется, не приняла в своё общество Лию-Юлию, но та, судя по всему, не слишком переживала из-за этого, так как власти «матери-командирши» Черноморского флота ей вполне хватало. Что касается Грейга, то он, как это часто бывает в подобных случаях, когда пожилые мужчины сходятся с молодыми девицами, полностью попал под её влияние. Теперь всеми хозяйственными делами Черноморского флота (да и не только хозяйственными), по существу, заправляла сожительница командующего и её ближайшее окружение. Супруга Грейга вначале прибрала к своим рукам все поставки флоту корабельного леса, а затем наложила свою длань и на другие направления хозяйственной деятельности флота. Грейг, к большому сожалению, сам, быть может, до конца того не понимая, стал лишь ширмой в умелых, жадных и цепких руках. Впрочем, и в отношении Грейга имеется достаточно «странный» факт: командующий Черноморским флотом и портов, как оказывается, являлся одновременно… председателем Николаевского ссудного банка! Командующий флотом и портов — банкир, надо ли говорить, как можно было направлять (и куда направлялись!) финансовые потоки! На эту должность, скорее всего, могла определить адмирала его не в меру предприимчивая сожительница. Лучшего прикрытия для финансовых махинаций придумать было просто невозможно!
Власть управительницы Черноморским флотом была поистине безгранична. Месть могла настигнуть кого угодно. Попал в опалу к любовнице командующего и знаменитый в будущем собиратель русского языка Владимир Даль. Поводом к расправе с молодым мичманом стала некая эпиграмма, сочинённая Далем, в которой последний весьма нелицеприятно и остроумно прошёлся по нравственным качествам Юлии Михайловны, не была забыта там и её национальность. Упоминался в эпиграмме и «глупый рогоносец» Грейг.
Биограф Владимира Даля Майя Бессараб в своей монографии «Владимир Даль» (Московский рабочий. 1968 г.) так, в несколько завуалированной форме, передала суть происшедшего:
«Единственный друг, с которым в это время Владимир мог отвести душу, был Карл Кнорре, астроном Николаевской обсерватории. Володе очень нравилась эта профессия, он жаждал знаний, душа требовала постоянных, полезных занятий — а между тем он носил её с собою в караул, на знаменитую гауптвахту в молдаванском доме, иногда на перекличку в казармы у вольного дока, и сам видел, что этой пищи для него было недостаточно.
Друзья засиживались допоздна в обсерватории, а потом долго гуляли по городу. Они любили ходить по бульвару вдоль Ингула или по главной улице. Тёплыми летними вечерами здесь собиралось всё местное общество. Знакомые и незнакомые барышни заглядывались на красавца мичмана.
— Вашему брату, моряку, и старость нипочём, — сказал однажды Карл. — Грейг — ходячие мощи, а туда же, завёл красотку.
— Так это правда? — удивился Володя. — Наш Алексей Самуилович?
— Он самый. Командующий Черноморским флотом, николаевский севастопольский военный губернатор Алексей Самуилович Грейг.
— Оно, конечно, это его личное дело, да зачем же тогда разыгрывать из себя такого святошу? — возмутился Даль.
— Да. Домик ей купил на главной улице.
В этот вечер они больше не говорили об адмирале, а наутро Владимир принёс Карлу сатирическое послание Грейгу. Карл расхохотался.
— Здорово, брат! Дай-ка я перепишу.
Через три дня стихотворение повторял весь город. Встречаясь на улице, люди спрашивали друг друга: „Слыхали?“
Дошли стихи и до Грейга. Адмирал рассвирепел, его чуть не хватил удар. Он приказал немедленно выяснить имя автора.
Кому же писать стихи, как не „сочинителю“? К Далю пришли с обыском, но ничего не нашли. Мать, провожая полицмейстера, который перерыл у неё весь дом, чтобы унизить его, ткнула ногой в ящик комода, где лежала старая обувь, и сказала:
— Тут ещё не искали.
— Что ж, поищем, — ответил полицмейстер.
И можно себе представить ужас бедной женщины, когда он вытащил из ящика случайно завалившийся туда черновик злополучной эпиграммы, написанный рукой её сына.
В сентябре 1823 года по приказанию Грейга Даля арестовали. Адмирал Грейг предал Даля военному суду. Год тянулось дело Владимира Ивановича. Его замучили бесконечными допросами, а затем разжаловали в матросы „за сочинение пасквилей“.
Ситуация принимала скверный оборот. Даль подал апелляцию. В „Деле мичмана Даля“ обвинения, выдвинутые против „сочинителя“, были столь абсурдны, и так нелепо выглядел старый адмирал, ополчившийся на молодого мичмана, что петербургское начальство отменило решение николаевского военного суда, в апреле 1824 года Даль был оправдан и выпущен на свободу. А летом перевёлся в Кронштадт. И хотя дело своё знал и служил неплохо, вскоре вынужден был с морской службой расстаться. У Грейга в Кронштадте было немало влиятельных друзей, которые сделали пребывание Даля во флоте невозможным».
Позднее историки выдумают историю о том, что Даль уволился с флота по собственной инициативе ввиду того, что «плохо переносил качку на море». Даже спустя столетия история расправы черноморской мафии над молодым мичманом была нежелательна для публикации. Почему? Может потому, что в эпиграмме Даля присутствовало юдофобское начало? Может, наоборот, потому, что именно после расправы он и стал ярым юдофобом? К сожалению, текст эпиграммы Даля до сегодняшнего дня не дошёл, и мы не можем его полностью процитировать. Историк флота Ф.Ф. Веселаго в «Общем морском списке» относительно эпиграммы писал так: «Это было собственно юношеское, шутливое, хотя и резкое, стихотворение, но имевшее важное местное значение, по положению лиц, к которым оно относилось». Известно, что само стихотворение называлось «С дозволения начальства» и велось от имени некого преподавателя итальянского языка. В стихотворении автор объявлял «сброду, носящему флотский мундир» о своём близком знакомстве с некой «подрядчицей», которая «скоро до всех доберётся!»
По-видимому, стихотворение Даля было не в бровь, а в глаз, потому что ярость Грейга была неописуемой. Куда подевалась маска европейского либерала?! Наверное, если бы Даля можно было повесить, то Грейг это проделал бы с преогромным удовольствием. Но Даль был дворянином, и его надо было судить. Грейг и здесь требовал от судей немыслимого — лишить Даля чина и записать в матросы! Морской аудиторский комитет не утвердил приговор Грейга, признав достаточным пребывание Даля под арестом и судом в течение восьми (!) месяцев. Мичмана тут же перевели с Чёрного моря на Балтику. Однако было очевидно, что мстительный Грейг и его «подрядчица» доберутся до Даля и там. Для молодого офицера выход был один — подавать в отставку, и как можно быстрее.