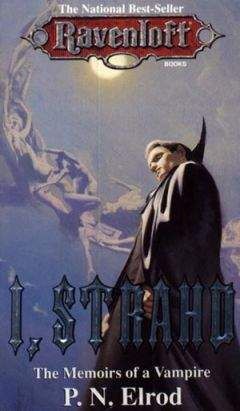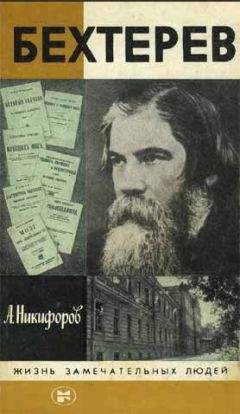Ознакомительная версия.
Теплое чувство, словно к родному брату, шевельнулось во мне. Я прочитала тетрадь, переданную мне Маловым, в тот же вечер. Теперь, когда Малова уже нет на свете, пусть познакомится с ней и читатель.
„ЗАПИСКИ ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА“
«…Да, каждый человек склонен думать о себе лучше, чем он есть на самом деле. Это присуще и мне.
Свои ошибки, проступки, пороки человек часто готов объяснить не закономерным проявлением отрицательных свойств своего собственного характера, а якобы проявлением злых намерений со стороны других людей. Многие из нас в какой-то мере лгут, завидуют, интригуют, мстят, трусят, но для себя, в глубине души, объясняют и свою трусость, и прочие «достоинства» тем, что это вызвано окружающей обстановкой.
С моей точки зрения (а она мне представляется, конечно, более правильной, чем у других) все эти качества отвратительны и недостойны человека, но, к сожалению и к великому моему огорчению, они присущи и мне. Единственное, что я пытаюсь делать, — и не всегда удачно, — это скрывать их под какой-нибудь более или менее надежной личиной…
Особенно мне мешает в жизни тревожность, мнительность, которые с раннего детства привили мне, единственному ребенку, мои родители. Чрезмерная забота о моем, всегда отличном, здоровье, бесконечные путешествия по докторам сделали свое дело.
Я хочу записать самые необыкновенные и в то же время самые обыкновенные мысли. Мне могут поверить и не поверить… Я хотел бы только напомнить, что мысли мои всегда правдивы и куда искреннее слов.
После «нервного расстройства», которое я перенес по причинам, известным только мне, я все-таки был мобилизован на фронт и скрыл репутацию «сумасшедшего». То, чего я так опасался, что так преследовало меня с первых дней войны, все-таки произошло. Но теперь я нашел в себе силу ради пользы общего дела и уважения к себе скрыть «сумасшествие». Культурные люди умеют лучше скрывать свои чувства. И я как человек культурный держался неплохо; чувствовал, однако, что скрываемые от всех тревога и мнительность, проще говоря, трусость, не только бередят меня, но и неудержимо толкают к привычной самозащите. Теперь, после участия в боях, меня удивляет, откуда в здоровом человеческом теле может таиться такая гнилая и хилая черта тревоги за его целость, невредимость, сохранность… И не есть ли это просто трусость?
…В массе серых солдатских шинелей я как личность растворился с первых минут похода… Я уже не был Борис Малов в единственном числе, а красноармеец Малов Н-ской части, Н-ского подразделения, как десятки и сотни тысячи других, подобных мне Ивановых, Проценко, Халиевых, Саркисянов, Гиберидзе и т. д… Помню, как в первый же час марша я почувствовал себя частицей огромного гигантского коллектива, выполняющего ответственнейшую задачу. И от этого я признал себя возвышеннее других, отличнее других, исключительнее, хотя и у всех других было не меньше «прав» на такое «признание», чем у меня самого.
Так как с самого начала я был свидетелем строжайшего военного распорядка и дисциплины, то бой, в ожидании которого у меня тревожно замирало сердце, тоже представлялся мне одним из заранее намеченных шахматных годов, осуществляемых по заранее составленным тактическим стратегическим планам.
…Вот уже пять дней мы идем по Н-ской дороге, почти не останавливаясь и не замедляя хода. Оттого ли, что мы двигались на юг, мне казалось, что диск солнца растет, жара увеличивается и даже «в ходу» ощущается духота. Чувствую я, что у меня в подошвах как будто толстая прослойка ваты, а ноги двигаются автоматически, самостоятельно от туловища. Это, вероятно, от многодневного похода. Боюсь, как бы не заполучить какой-нибудь ревматизм, тем более что разгоряченными ногами переходил вброд холодную речку. Еще мать всегда говорила, от этого бывает ревматизм… Это будет ужасно!
Кажется, снова схожу с ума. Можно потерять голову, а я опасаюсь ревматизма…
Снова поговаривают, что скоро бой. Вижу только серое, клочковатое небо и в мыслях представляю бой, совсем как В картине «Александр Невский». С двух концов чистого поля плавно двигаются друг на друга стройные колонны и, сойдясь, кричат: «Православные, на-чи-най!» Собственно, это командир кричит оглушительным басом, от которого дребезжат не только ушные перепонки, но и все усталое тело. Согласно выучке, хватаюсь за винтовку и открываю глаза… «Ребята, наш писатель белены объелся…» — слышу хохот товарищей и окончательно просыпаюсь…
Значит, не успел я еще сесть на землю, как моментально уснул. Я отказался бы от жирных щей со свининой, от любимой гречневой каши и даже от стопки водки, но спать мне не дают. В данный момент спать не положено. Ем такие щи, каких не едал никогда. Я поглощаю целый котелок рассыпчатой гречневой каши с маслом и сейчас же засыпаю…
…Бой начался совсем иначе, чем я себе представлял. Туча черных бомбардировщиков закрыла над нами небо и стремительно понеслась вперед. Человеческая лава текла по земле в ту же сторону. Что-то забухало, застрекотало. Не было слышно никакой команды, я шел среди моря напряженных, красных, потных лиц. Знакомое чувство тревоги так отчаянно охватило меня, что я, никогда прежде не ощущавший сердца, остро почувствовал, что оно у меня есть и что каждую минуту оно может вырваться — так неистово оно билось в грудной клетке. Я сказал бы неправду, если бы приписал себе в эту минуту какие-то другие чувства, которые, мне казалось, выражались на лицах товарищей, шагавших рядом со мной.
…По тому, как меня качнуло воздухом и обдала комьями земля, я понял, что где-то, наверное, далеко, разорвался снаряд. Я весь сжался и сам себе показался очень маленьким и растерянным… Небо вдруг потемнело. Может быть, это новые тучи самолетов обгоняли нас… Наверху, в разных концах все чаще вспыхивали слепящие пятна, похожие на искры электросварки. Затем все неожиданно всколыхнулось и побежало вперед… Очевидно, была команда, но я ее опять не слышал. Уверен, что и мой товарищ ее не слышал, так как у него в этот момент лицо было очень напряженное. Затем я пошел медленнее, как и все… Тревога и страх почему-то незаметно улетучивались, заменяясь новыми для меня ощущениями. Тяжести в ногах больше не чувствовалось. Даже винтовка, которую я крепко стиснул руками, показалась легкой и привычной — словно воевал я всю жизнь.
— Борис! Если меня убьют, напиши Марусе… Все найдешь в кармане куртки… И отправь… А партбилет отдай командиру… — сказал Иванов, товарищ из подразделения.
Помню, очень меня поразило, что в такой страшный, опасный момент этот невзрачный, слабый телом человек думает не о себе, не о целости своей головы, а, весь побледнев, держит в своем сердце образ любимой… Помнит о красной книжечке партбилета, потерявшей после его смерти теплоту сердца, рядом с которым она всегда; хранилась. Лицо другого товарища, справа, тоже представилось мне необыкновенным. С порозовевшими от напряжения белками, застывший в выражении сурового устремления вперед, он казался грозным пророком… Затем я мельком запечатлевал в сознании лица других, и те казались мне такими же необычными… Почему же ко мне снова подполз подленький страх?..
…По мере того как росли стоны, вопли, проклятья врагу, по мере того как усиливался грохот наших танков и орудий, небо и земля превращались в сплошное кровавое зарево и пахло горелой землей и горелым мясом, по мере того как горячие острые осколки снарядов на моих глазах рвали на части людей — я чувствовал, что моя «индивидуальность» с жалким страхом за свое бренное существование тает, как воск… Страх первого впечатления от боя прошел. Мое тело, как и раньше приседало, прикрывалось, пряталось за бугры, но теперь уже не только потому, что меня еще не совсем покинул страх; мозг вступал в свои права. В бешеном темпе контролировал он мои впечатления. Я познавал, что люди умеют умирать. Умирали сразу и медленно. Умирали спокойно, как засыпали, не выпуская винтовки. Умирали разбросанно, судорожно… Женщины и мужчины в белых халатах самоотверженно, привычно перевязывали раненых и быстро уносили на носилках. Один плечистый санитар с добродушным лицом вдруг выпрямился во весь свой высокий рост и упал. Подбежала маленькая девушка с красным крестом, пощупала его пульс, припала ухом к груди и, убедившись, что он мертв, быстро продолжала начатую им перевязку. Страх отходил… Надолго ли?..
…Молодой белобрысый фриц неожиданно вынырнул откуда-то сзади и прицелился в Иванова. Прямо в затылок… Я успел выстрелить фашисту в лоб. Теперь страха не было. Было напряжение, настороженное ожидание, нетерпеливость: «А, ну, где вы, подлюги? Покажитесь!…»
…Словно одержимый, я рванулся вперед.
— Стой, черт! Ошалел? Пригнись! — у самого лица крикнул Иванов и дернул за полу шинели вниз в окопчик. Это меня спасло. Мы поквитались жизнями…
Ознакомительная версия.