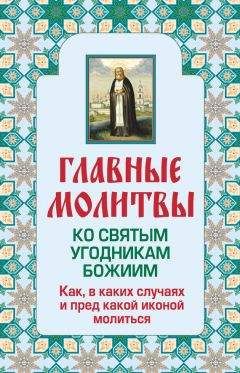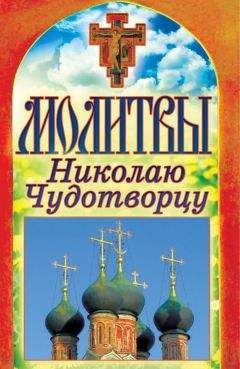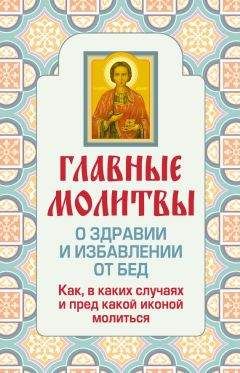как девчонка перед зеркалом, деловито откидывает волосы назад.
Заключенный тоже оказался крупным человеком. Широкой кости и, наверное, высокий. Ему было около сорока, хотя, возможно, он выглядел старше из-за черной густой бороды. У него было открытое лицо, большие карие глаза.
Раздался второй удар. Но заключенный как будто решил терпеть и ничего не сказал. Охранник размахнулся со всей силы и ударил с прыжка. Тогда заключенный произнес еще раз:
— О Аллах!
Засмеялась вся тюрьма. Я тоже не смогла сдержать улыбку. Заключенный, вероятно, неосознанно, издевался над Гошкаром своей реакцией. Он будто говорил: «Что-то ты не особенно хорош в пытке, брат. Я ожидал большего».
Было в этом голосе, в этом тоне что-то трогательное и нескладное одновременно. Заключенный словно отрешился от происходящего. Казалось, что это голос не человека, которого пытают, а просто наблюдающего, который сидит где-то в пещере и так вот вслух сочувствует незнакомцу, и эхо разносит далеко вокруг. Мужчина не выделывался и не сопротивлялся — он смирился, но в то же время не унижался перед охраной.
Это продолжалось довольно долго. Когда он молчал, то с ним молчали и мы. Когда он говорил, то все камеры ходили ходуном от смеха. Кто-то из охранников прошелся вдоль камер с дубинкой, стуча по дверям, и взял плеть, чтобы помочь коллеге. Они начали свистать на пару. Темп ускорился. Надзиратели вспотели. Пять или шесть ударов спустя заключенный все молчал. В камерах крикнули, что тот потерял сознание. Его облили водой, привели в чувство, и пытка возобновилась.
Самое главное, что его не допрашивали. Его просто били. Было очевидно, что для начала допроса охранникам надо было довести человека до потери контроля, до паники. Заставить почувствовать такую боль и унижение, чтобы тот превратился в ветошь, с которой можно уже делать что угодно, повесить какую угодно статью, даже самую нелепую.
Но этот не ломался. Он кричал, орал, извивался, но не ломался.
А мы смеялись. Но это было по-доброму. Никто не смел сказать ни слова, чтобы подбодрить бедолагу, потому что тогда всю камеру облили бы водой и, возможно, даже избили. Но смеяться вместе, пусть и в полголоса, было допустимо. Мы как будто поддерживали его своим смехом. За пару часов этот человек полюбился всей тюрьме. И да, он во всем признался.
Собственно, за все время, что я здесь сижу, не было ни одного, кто бы не признался во всем и не сказал бы все, что от него требовали. И этот не стал исключением. Он плакал так же, как и остальные. Он так же охрип от крика. Но было в нем что-то, что не позволило ему сломаться. Была ли это вера в Бога, я не знаю, но мне почему-то хотелось так думать.
Его обвиняли в краже машины. Он признался во всем.
Сегодня днем по коридору прогремело очередное: «Мертвец!» Охранник выглянул из своей каморки и спросил:
— Кто на этот раз?
— Этот… который «О Аллах!».
Все в нашей камере оживились. На щеках Нахед я увидела слезы.
— О Аллах! О Аллах! О Аллах! — раздавалось с разных сторон в нашей камере, и никто уже не смеялся.
***
Кристина купила две зубные щетки, одну она отдала Ширин. У той давно уже пахло изо рта, поэтому Кристина сжалилась над ней. Но моя подруга не учла, что Ширин это не надо. Ну, или она на это не способна. Да, есть такие люди, которые не способны почистить зубы. Несколько раз эту процедуру проконтролировала Кристина, но потом махнула рукой. Сегодня она лишь сказала:
— Ширин, иди чистить зубы!
Ширин пошла. Она выдавила пасту на щетку и встала у туалета. Недвижима. Я долго наблюдала за ней и не выдержала:
— Там никого нет, — сказала я.
— Да, я знаю, — ответила Ширин и продолжала стоять.
Через минуту в туалет вошла Шадя, но вскоре вышла. Ширин все не заходила. Мне аж интересно стало, в чем причина. Потом в туалет вошла другая девушка. Вышла. Ширин все стояла.
— Ширин, чего ты ждешь? Иди же! — не выдержала я.
— Очередь… — растерянно ответила Ширин.
— Какая очередь, блин! — Я чуть не выругалась, но в туалет зашла другая девушка.
— Вот видишь, Катя, в любой момент кому-то может понадобиться туалет.
Я удивилась такому ответу. Туалет освободился. Ширин все стояла.
— Мне кажется, подошла твоя очередь, Ширин, — деликатно выразилась я.
Ширин ничего не ответила. Вместо этого она начала переминаться с ноги на ногу и мычать. Камера жила. Женщины занимались своими делами: ели, спорили, играли в карты, молились, давили друг другу вшей. А Ширин все стояла с зубной щеткой у туалета и не решалась туда войти.
Туалет использовался и освобождался еще несколько раз.
— Ширин! — не выдержав, закричали в один голос мы с Кристиной. — Иди же!
Лицо Ширин сморщилось, и слезы градом хлынули из ее глаз. Аж до противоположного угла камеры долетели. Она как ребенок стояла и плакала у туалета.
— Я не могу!!! — сквозь слезы сказала она.
Я и Кристина закатили глаза. Видимо, после пытки у нее совсем помутился рассудок.
Динара подошла к ней, вырвала щетку из ее рук и сказала:
— Зато я могу!
И ушла в туалет чистить зубы. Теперь этой щеткой стали пользоваться Зиляль и пять ее подруг.
Сегодня Ранда спросила у меня, как мне удается так долго спать на каменном полу.
— О! — попыталась я ее обнадежить. — Тяжело только в первую неделю! Когда пройдут первые синяки, будет легче. На бедрах, спине и локтях кожа огрубеет, станет толстой и гладкой, словно после полировки, и вы ничего чувствовать не будете! Сможете всю ночь спать на одном боку и даже не проснетесь!
Однако Ранда почему-то еще сильнее расстроилась и расплакалась. Я не могла ее утешить, пока к ней не подсела Нахед и принялась ее убаюкивать.
— Ну что ты! — причитала она. — Тебя не оставят здесь на неделю. Они же знают, что ты невиновна. Еще день или два, и тебя освободят.
Это была ложь. С таким же успехом можно было бы пообещать, что никого больше не будут пытать.
Я вопросительно взглянула на Нахед, но та ничего не сказала, лишь показала мне кулак.
***
Электричество было отключено, и камера спала. Рядом со мной зашевелилась Нахед, и я открыла глаза. Она села, и у меня появилась возможность повернуться на другой бок. Она долго искала что-то наощупь и наконец зажгла фонарик, потом начала шуршать пакетами. Через минуту стало слышно, как она жует хлеб.