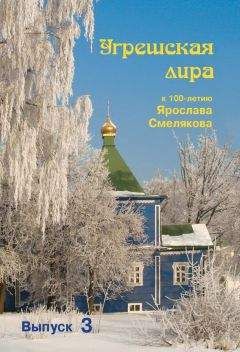"Здравствуй, друг!
Через шестьсот сырых расхлябанных верст посылаю тебе несколько слов. Держись, родной, и люби себя, потому что ты один из самых умных людей в России и поэт не меньше Баратынского… И вот ведь, что интересно, в частностях ты проигрываешь иногда Соколову или мне, во всяком случае, в частностях ты нам больше проигрываешь, но в целом ты, сука, выигрываешь! В этом твоя тягучая сила, твоя золотая тяга, твоя длинная терпкая тоска и еще что-то.
Кстати, перелистал я Белинского, вот у кого "проколы" — один за другим, а иногда просто глухота. Что касается Писарева, то он довел меня до раздражения сразу несколькими страницами. Игра его ума для юношей и дерзость запланированная тоже для филологов второго курса пединститута. Читаю "Божественную комедию", вдруг откладываю, начинаю читать Блока — он совсем исключил мастерство из поэзии, он выше и беззащитнее, потом читаю Селъвинского — где мастерство, там еще ничего, "тигр, ленивый, как знамя", а где душа обнажена — там скука, слабина, глупость. Вот так я тасую, тасую века и поэтов и незаметно крепнет чувство собственного достоинства, особенно после чтения таких, как Ахмадулина. Кроме жеманства, ничего своего, все остальное из Пастернака… Живу плохо, потому что одиноко и язва болит…"
Ну разве не было наслаждением читать такое его письмо, в котором был он весь — с капризами, недугами, взлетами духа, тщеславием, прозрениями, стоицизмом, бесконечным эгоизмом, полной откровенностью, неизбывным ребячеством, неожиданными глубинами мысли, звериной остротой взгляда, мелочностью натуры и несомненным талантом.
"Я медленно восстанавливаю силы, выпущенные хирургом-стоматологом вместе с тазом крови и гноя, час сорок минут разрывали мою пасть, резали опухоль на надкостнице, выламывали зуб, щипцы в рот не пролезали, врачи вспотели, я моргал, пока не отключился… Дали нашатыря.
Утром я проснулся и со всей реальностью ощутил то, что раньше воспринимал только одной стороной своей души — физические страдания Пушкина после дуэли, когда он лежит на снегу. Багрицкий, сука, написал слащавую х…ю:
И Пушкин падает в голубоватый
Колючий снег…
Все эти мои физические страдания и чтение "Войны и мира " сделали свое дело — что-то изменилось во мне, и, как я понял, навсегда. В двух словах об этом не скажешь, но если раньше мгновения моей жизни были мгновениями встречи осени, женщины, друга, смерти, то теперь это прощание с другом, осенью, женщиной и самим собой, которого я люблю, и если Гегелю не понятна сияющая бездна и совесть (Канту. — Ст. К.), то мне лишь одно — смерть.
Дня три назад решил попрощаться с природой, обвязал пасть и уехал на "москвиче" в Александровку с юным ординарцем Лихой, который ловит каждое мое слово, боксирует, лучше меня владеет веслом, не трус и умен. Ночевали мы в пустом недостроенном доме деда Павлюка, окна еще без стекол, и всю ночь как раз там, где горел наш прошлогодний костер, кричали дикие гуси. Душа разрывалась! Арина с ведрами прошла и говорит: "Гуси кричат". Я чуть не разрыдался. А на плесе нашем пусто и мертво. Ни поклевочки… Да, у меня двустволка. Ночью я и Лиха бьем лампочки на обрыве, где Никольский собор, но на рыбалку не беру — все из-за этой надкостницы и боли. Жалко убивать птиц.
Обнимаю тебя.
Игорь.
16 сентября 1966 г. "
И еще отрывок из письма, полученного мною в далеком узбекском городке Шахрисабзе, куда я в то время прикочевал в геологическую экспедицию с Эрнстом Портнягиным:
"В конце августа жду в Александрова, грибов будет очень много, земля звенит, а ночи стали холоднее, дело к осени. Вот и еще одно лето косыми лучами скользнуло по нашим лицам, уже немолодым. Привези какую-нибудь хрустальную друзу. Никогда я не был на Памире. 1968 г. "
* * *
Летом 1971 года мы, трое заядлых рыбаков и путешественников (третьим был организатор поездки Игорь Печенев), добрались до озера Кара-Гель — дорога была трудная: на поезде, потом на машинах, потом по Карабахскому бездорожью на лошадях. Шкляревский растряс все свои болячки и на берегу озера, где мы поставили палатку и ловили форель, усилием воли продержался несколько дней, а потом свалился с резями в животе. Не дай Бог аппендицит! Глядя на его желтое лицо, впавшие щеки, на мокрые от жара жидкие пряди волос, прилипших ко лбу, я понял, что мне нужно по запутанным тропам легендарного нагорья выйти к какой-нибудь крупной деревне, где есть телефон, и дозвониться до азербайджанского селения Ахметли, откуда нас доставили на лошадях к озеру, чтобы, пока ему не стало совсем плохо, за ним прислали лошадей.
Целый день с утра до вечера я шел на восток, выпытывая у редких, плохо говорящих по-русски пастухов дорогу, сбивался с маршрута и снова находил его, опускался без сил на траву, жадно пил воду из ручьев, заставлял себя подняться, думая лишь о том, каково там ему на берегу озера… Но нет худа без добра. Обошлись мы без аппендицита, и в итоге родилась поэма "Карабахская хроника".
Но я забыл сказать, что вдруг
мой опаленный солнцем друг
свалился с приступом во чреве.
Если же собрать все мои стихи, посвященные ему, а также те, в которых он так или иначе присутствует, и его стихи, где присутствую я, то получится если не роман в стихах, то целая небольшая книга, замешенная на дружбе, ревности, преданности, разочаровании, клятвах, разрывах…
Однажды в порыве ревности он даже допустил непростительную ошибку: звериная проницательность на мгновенье покинула его — и он принял мои стихи, в которых я прощался с Анатолием Передреевым, на свой счет:
Прощай, мой безнадежный друг,
нам незачем вести беседу,
ты вожжи выпустил из рук,
и понесло тебя по свету.
Каково же было мое горькое удивление, когда в книге "Неназванная сила", которую Игорь подарил мне с подписью
"Дорогому Станиславу, автору гениальной "Карабахской хроники", я вдруг прочитал:
"И понесло тебя по свету", —
перечитал я строчку эту
и с горечью подумал вдруг:
чему ж ты радуешься, друг?
Зачем придумываешь мне
напасти? Их и так немало.
Теперь я одинок вдвойне
у Белорусского вокзала.
На Белорусском вокзале я обычно провожал его в Могилев, сажал в поезд, обнимал на прощанье.
Я переживал наши размолвки по-своему, но не меньше, чем он. Время от времени воскрешал в памяти безоблачные картины молодой жизни, листая его книги, перечитывал стихи, и это заживляло раны и ссадины от его же мелких пакостей, случайных предательств, недостойных его таланта интриг.
Люблю протяжный стон гусей,
березы желтое отрепье
и поздней осени твоей
угрюмое великолепье!
Люблю, когда прозрачный лед
звенит, расколотый о сваи,
и с крыльев золото течет
на деревянные сараи.
А ночью ветер ледяной
солому кружит во вселенной,
и не поймешь, где звук живой,
где только отзвук незабвенный.
В такую ночь уже нельзя
всю душу выболтать растеньям,
надежды, женщины, друзья —
все подвергается сомненьям.
Но ты — моя святая дрожь!
Где шум лесов, где вздох народа?
Где слезы матери, где дождь?
Где Родина, и где природа?
Нет, недооценивали его стихи Кожинов и Соколов, а я любил — вот почему на два десятка лет он и притулился ко мне, вот почему и открывался мне в письмах таким, каким его не знал никто, — проницательным эгоистом, отчаявшимся волчонком, ранимым сверхчеловеком, наивным мизантропом.
"Здравствуй, друг!
Это письмо ты получишь как раз в день рожденья. Я давно тайно подозреваю, что мир был задуман мудрее, но случился какой-то просчет, и лучшие люди этой земли обречены на ту же участь, что и ничтожества.
Мы не получаем за свои бескорыстные страдания ни одного десятилетия сверх, даже "северную надбавку" время не выделяет нам, наоборот, урезает отпущенное.
"Лицом к лицу лица не увидать", нас еще оценят те, кто понимает, "где поза, а где свобода и полет". Только не видать этих ценителей, оглядываюсь — не вообще, а вот сейчас, в Ессентуках — какая грусть!
Доступные уродки и жалкие подобия мужчин сосредоточенно шаманствуют в буфете; ужас, как берегут себя, и на кой хрен? Для чего? Для каких грядущих светлых поколений? Для каких высших замыслов? Для себя, и только. Стадные инстинкты — жить подольше и получше; что бы ни случилось, стряхивают с себя, как собака воду, в крайнем случае, реагируют периферийной нервной системой, и уж точно не центральной. Забывают мгновенно все, что мешает им быть счастливыми, этот мотылек с тяжелым задом, когда хочет сказать "череп", то говорит "труп", очень любит иностранные слова и тайно, сука, обожает песни Рождественского. Друг, люди очень изменились, вторая жизнь — надежда темных, никто в нее не верит, никто не боится пакостить.