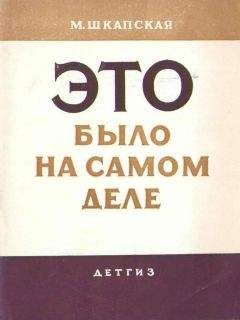«Ты партизан», сказали ему и погнали в тыл. Толя пошел в чем был — в одних портянках. Шел, едва ступая омертвевшими ногами, шатаясь от голода.
В пути его ранило вторично — в левую руку. Опять шла кровь и уходили силы. Во время ночлега у него отвалились пальцы.
Но и это был еще не конец. Утром его выгнали из дома, где он ночевал. И Толя снова пошел.
Когда Толя доходит до этого места, у него голос срывается и он говорит:
— Я об одном тогда думал — бывают же такие счастливые, которых сразу убивают! А мне ужасно не повезло.
Они шли толпой. Это называлось военнопленные. Наши части били по деревне. Немцы прогнали толпу прямо под выстрелами.
Только в следующей деревне кончились Толины мученья. Первая же выскочившая из избы женщина, увидев измученного ребенка, бросилась ему на шею и завопила:
«Сынок, сыночек мой!..»
«Мать это его, муттер», не сговариваясь, подтвердили спутники.
И мальчика отдали этой названой матери.
В Нину Киселеву стреляли из пулемета, когда они с мамой убегали от фашистов в лес.
Она обернулась.
«И зачем ты только оборачивалась?» много раз спрашивала ее потом мама. А дело было очень просто — ей ужасно хотелось посмотреть в последний раз на Феколку. Феколка — это телочка, совсем молоденькая, с такими мягкими губами и доверчивыми глазами.
Пуля попала Нине в лицо и раздробила челюсть.
Раненная, она все-таки уползала вместе с матерью от врагов.
Им удалось уйти. Но мороз был слишком жесток. Ей пришлось оставить в операционной свои пальчики.
— Как я теперь буду пасти Феколку, когда она вырастет?— спрашивает Нина сестру, задумчиво глядя на свои забинтованные ноги.
Валя Башлыкова из деревни Черная Московской области уже сидит сейчас в своей кроватке. Ей пять лет, она сама ест свой суп и яичко — очень медленно, бережно, еще неуверенными руками. Она так много потеряла крови, что личико ее совершенно прозрачно.
Ее тоже выгнали на мороз без обуви. Мать умоляла оставить девочку в избе — ее в ответ ударили прикладом.
Валя сама сбрасывает одеяло с ножек — она все хочет делать сама. Вместо ног забинтованные обрубки.
Валя говорит серьезно, не улыбаясь:
— Мне сделают башмаки, и я сама буду ходить. Сестрица, я буду ходить?
Она поднимает на сестру огромные и печальные свои глаза.
— Конечно, будешь, Валечка, — отвечает ей сестра неестественно живым и веселым голосом и отворачивается.
Деревня Вани Громова, Новинки Волоколамского района, в начале зимы оказалась на линии фронта.
Ваня видел первую немецкую атаку. Они шли в рост, пытаясь внести панику в ряды наших бойцов. Ваня отнесся к атаке так же спокойно, как и бойцы.
Когда подбило ноги двум связным, Ваня волоком вытащил их из огня, перевязал, отвез в лазарет и опять вернулся.
Наши прикрывали отход на новые позиции. Когда они стали отходить, Ваня нашел еще раненого. Пока он его перевязывал, в деревню вошли немцы. Ваню как пленного отправили в штаб.
Его ввели в избу, где были два офицера, переводчик и еще трое военных. В углу у печки сидела старушка-хозяйка.
Его спрашивали, не солдат ли он, не коммунист ли. Ваня, улыбаясь, ответил, что у нас ни в армию, ни в партию не берут малолетних.
После краткого допроса старушку выгнали. Офицер выдвинул на середину избы стол. Ваня решил, что его будут вешать. Но офицер сказал ему: «Шпать, шпать» и положил голову на руку.
«Ну, значит, не повесят», подумал Ваня и лег.
Офицер снял с себя ремни, раздвинул Ване ноги и привязал их к ножкам стола. Ремней нехватило, сняли их у переводчика и еще у одного. Затянули руки ремнями и сели курить. Если мальчик шевелился, кричали на него.
Он лежал и смотрел на мучителей. Взгляд его был, видимо, ужасен — один из фашистов прикрыл ему глаза рукой и еще пальцем погрозил: «Не гляди!» и ушел во двор.
Через несколько минут вернулся, в руках у него была слесарная ножовочная пила. Опять крикнул: «Рус, не гляди!»
Но он глядел не отрываясь. Мальчишеская гордость не позволяла закрыть глаза. Голова у него свесилась за край стола, руки затекли, но он все смотрел.
Все шестеро, пересмеиваясь, столпились возле связанного ребенка, оттянули ему раненую правую руку. Мальчик вдруг почувствовал на руке острый холодок стали.
— Уже начали пилить, а я все не верю, — говорит Ваня, — не верю, что могут такое сделать.
Они могут всё: шесть взрослых мужчин, покуривая и смеясь, пилили руку ребенку.
Ваня не помнит, кричал ли он. Может быть, даже не кричал.
— Как перепилили кожу, так я стал без памяти.
Когда Ваня пришел в себя, изба была пуста, он лежал на полу, залитом кровью, подле него стоял на коленях русский санитар и бережно гладил его по взмокшей голове, приговаривая участливо: «Ничего, паренек, не робей, я крепко перевязал».
Ваня думал, что он уже у своих, что его отбили. Оказалось, санитар, тоже пленный, остался в селе с тяжело раненными. Его вызвали, чтобы перевязать Ване руку. Кисть была отпилена начисто.
«Знаешь, они смеялись, — рассказывал Ване санитар, — говорили: «Ты больше зольдат никс, стрелять никс» — воевать никогда не сможешь».
«Ну, это мы посмотрим — никс или как! Мое слово последнее», ответил мальчик, снова теряя сознание.
Ваня через три недели убежал от фашистов к матери. Живя в деревне, с гноящейся рукой он ухитрялся помогать партизанам. Когда вошла Красная армия, его отвезли в госпиталь. Сейчас рука уже подживает.
— Как новая кожа у меня нарастет, уйду на фронт, — говорит он твердо. — Я уже левой рукой стрелять научился, а в разведку и тем более гожусь. Пусть посмотрят — никс или как.
ТО, ЧТО РАССКАЗАНО ЗДЕСЬ, ПОДТВЕРЖДАЮТ ТЫСЯЧИ СВИДЕТЕЛЕЙ
Мальчики играли в войну, пыхтели, пытаясь повалить друг друга, и сердились, если враг не падал. Кончилось тем, что были убиты все, кроме командира. Он оглянулся, вытер со лба пот и вдруг закричал:
— Убитые, встаньте! Родина приказывает.
Все поднялись и убежали для нового формирования.
— Где ты это слышал? — смеялась его мать, учительница из Петракова, Кустанович, укладывая вечером сына спать.
— Так теперь играют все мальчики, — ответил ребенок.
Он устал от «войны» и уснул, едва коснулся головой подушки.
И тогда пришла настоящая война. Загромыхали на улице орудия, раздались редкие выстрелы, запылал соседний дом.
После полуночи хлопнула входная дверь, и, топая сапогами, вошли немцы.
Мальчик проснулся разом, крикнул и ухватился за мать. Она стояла без кровинки в лице и прижимала к себе ребенка.
— Идите с нами и покажите, где остались командиры.
— Я не знаю, — ответила Кустанович и еще крепче прижала к себе мальчика.
Ее силой вытолкнули на улицу. Напротив пылал дом, пламя поднималось к небу.
— Если вы не укажете, где они, я брошу его в огонь, — сказал офицер.
Кустанович хорошо знала немецкий язык, но ей показалось, что она не поняла.
Офицер повторил еще раз, медленно и отчетливо:
— Я брошу ребенка в огонь.
На этот раз она поняла и судорожно ухватилась за мальчика. Он заплакал. Пламя поднималось к небу. Офицер ждал ответа.
— Я не знаю, — сказала тихо мать.
Офицер взял ребенка и бросил его в огонь.
Мать кричала так, что несколько женщин сошло с ума.
Пока ребенок горел, ее держали, чтобы она не бросилась ему на помощь.
Потом ее застрелили.
— Почему она кричала: «Убитые, встаньте»? — спросила после казни одна женщина у другой.
— Не знаю, — ответила та. — Мертвые не встают. Но такие мертвые поднимают миллионы живых.
На хуторе Богдановка Тульской области живет слепой старик. Когда после ухода немцев на хутор приехал писатель Савва Голованивский, старик рассказал ему о своей внучке.
Она была совсем маленькая, ей не было еще трех лет, она только начинала говорить.
Когда фашистский солдат-финн вошел к ним в избу, девочка была на руках у матери. Она смеялась и протягивала вошедшему ручонки.
Финн этот отлично говорил по-русски. Он спросил у девочки:
— Где твой папа?
— Бьет фашистов, — не задумываясь, ответила малютка.
Тогда фашист схватил девочку за ножки и размозжил ее маленькую головку об угол печки.
В избе колхозницы Садомовой в деревне под Тулой стояли немцы. Был жестокий мороз. Садомова ежедневно жарко топила печку, но к утру опять становилось холодно.
У Садомовой был трехлетний мальчик Шурик. Однажды вечером перед сном он раскапризничался. Испуганная мать успокаивала его как могла, но ребенок плакал все громче и громче.