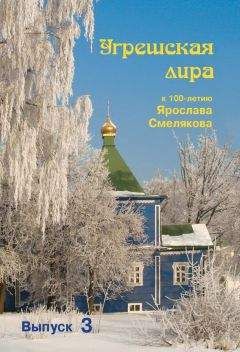Мы сидели большой и шумной компанией московских и вологодских литераторов в гостинице городка Никольска — только что вернулись с родины Яшина из деревни Блудново и продолжили свое праздничное общение в двухэтажном деревянном доме, в большой комнате со скрипучими полами.
Стояло раннее лето, и в распахнутые окна ветерок, дующий с реки Юг, вносил в комнату сладкие запахи отцветающей черемухи. Настроение у всех было превосходное.
Но все испортил мой тезка критик Станислав Лесневский. Он встал со стаканом в руке и предложил здравицу в честь "знаменитого, великого русского национального поэта Евгения Евтушенко". Слова Лесневского покоробили всех — все-таки Вологодчина, родина Николая Клюева, Александра Яшина, Николая Рубцова. Бестактно…
Взглянув на улыбающегося Евтушенко, принявшего как должное грубую экзальтированную лесть, я решил вернуть своего тезку на грешную землю.
— Да, я готов выпить за знаменитого, может быть, даже за великого, но за русского национального — никогда. Ты уж извини меня, Женя.
— А кто же он такой, по-твоему? — сорвался на провокаторский визг Станислав Стефанович Лесневский. — Если не русский, то еврейский что ли?
— Может быть, никакой, а может быть, и еврейский. Вам лучше знать, — ответил я.
В состоянии истерики Лесневский выскочил из комнаты. Вслед за ним ушел и "великий" поэт.
— Станислав! — с мягким упреком обратился ко мне вологодский писатель Александр Грязев, — неудобно как-то. Может быть, позвать Лесневского обратно?
— Обойдется! — отрезал я. — Еще сам извиняться придет…
Лесневского мы нашли лишь к вечеру, спящего тяжелым похмельным сном в зарослях черемухи на берегу реки. А по возвращении в Москву я вскоре получил от него письмо.
"Дорогой тезка! Высоко ценя тебя, как поэта, литератора и деятеля, я чувствую себя крайне виноватым перед тобой за свою невыдержанность в приснопамятный день. Прими, пожалуйста, мои искренние извинения. От души желаю тебе блага, здоровья и удачи во всем задуманном.
Твой Ст. Лесневский".
Однако буду справедлив: популярность Евтушенко в 60— 70-е годы была фантастической. Но его отношения со своими поклонниками были таковы, что завидовать ему было и глупо и смешно. Он, как наиболее расчетливые звезды "масскульта", знал цену своему поклоннику и невысоко ставил его обожание, понимая, видимо, примитивность взаимоотношений. Однажды, после большого поэтического концерта, Олег Чухонцев, Евгений Евтушенко, только что отработавший часа три на эстраде, и автор этих строк очутились в кафе за столиком. К нам тут же подлетел поклонник. Вернее, не к нам, а к нему.
— Подпишите! — задыхаясь от удачи, он протянул своему Кумиру его же книгу.
Кумир, не прерывая разговора с нами, вытащил авторучку — и не то чтобы спросить поклонника, как того зовут или что-нибудь другое, — повернулся к нему лишь настолько, чтобы не промахнуться золотым пером "Паркера" мимо обложки, и коряво черканул на ней что-то отдаленно похожее на свою фамилию.
— Молодой человек, — обратился я к поклоннику, — вот, — я показал на истинного, но малопопулярного поэта Чухонцева, — возьмите и у него автограф, он тоже пишет стихи и — замечательные…
Почитатель поглядел на меня как на ненормального:
— Какой еще поэт? Вот он — поэт! А этого вашего я не знаю, да и знать не хочу…
Мы рассмеялись, и, когда поклонник гордо удалился, я сказал Кумиру:
— Ты бы хоть именем поинтересовался, написал бы два слова, а то неудобно как-то!
Тут уже Кумир посмотрел на меня как на ненормального:
— Да ты что? С него и автографа за глаза будет! Им больше ничего не надо, я этот народ знаю, уж поверь мне…
В чем, в чем, а в этом ему действительно можно было верить…
Я не придаю большого значения тому, что в 1987 году Евтушенко выступил против присуждения мне Государственной премии. Премия — это пустяки. Насильно, как говорится, мил не будешь. Вот противостояние, возникшее к августу 1991 года, было делом серьезным.
Через несколько дней после августовской провокации в Союз писателей России пришла толпа — некий 267-й "батальон нац. гвардии". На второй этаж из нее поднялись трое шпанят-хунвейбинов с бумагой, подписанной префектом Центрального округа Музыкантским, о том, что наш Союз закрывается, как организация, "идеологически обеспечившая путч". Я тогда разорвал эту бумагу напополам и бросил обрывки к ногам хунвейбинов. Именно тогда мы узнали, откуда ветер дует: оказывается, не кто-нибудь, а Евтушенко в эти подлые дни отправил за своей подписью письмо Гавриилу Попову с требованием закрыть "бондаревско-прохановский" Союз писателей. Сам автор письма уже восседал в бывшем кабинете Георгия Маркова на улице Воровского. Незадолго до этого он и его соратники — Черниченко, Адамович, Нуйкин, Савельев выгнали старых секретарей из кабинетов (якобы за связь с ГКЧП), плюхнулись в их теплые кресла и вцепились в правительственные телефоны-вертушки.
Памятуя о наших некогда неплохих отношениях и не до конца веря, что поэт Евтушенко мог написать Гавриилу Попову такой донос, я вскочил в машину и помчался с Комсомольского проспекта на Воровского.
Евгений, сидевший в кабинете один, поднял на меня свои холодные глаза.
— Женя! Как бы мы ни враждовали, но так опускаться! Ведь в нашем Союзе Распутин, Белов, Юрий Кузнецов, которых ты не можешь не ценить. Зачем вы возрождаете чекистские нравы? Одумайтесь!
Он с каменным лицом и ледяным взором поджал и без того тонкие губы:
— Стасик! Хочу сказать тебе откровенно: не ошибись, сделай правильный выбор, иначе история сомнет тебя. Не становитесь поперек дороги. Ты что, не понимаешь — время переломилось. Извини, больше разговаривать не могу. Мне надо ехать…
Мы вышли во двор усадьбы Ростовых, где у дверей Союза стоял его черный "мерседес". Я шел за ним, еще не потеряв последней глупой надежды в чем-то переубедить его… Но он уже открывал сверкающую дверцу лимузина, и тут, как на грех, когда он уже садился в кресло, натянулась пола его пиджака и одна из роскошных золотистых пуговиц отлетела и покатилась под машину. Раздосадованный поэт, чертыхаясь, присел на корточки и стал искать пуговицу, чуть ли не ползая по асфальту. При виде его согнувшейся озабоченной фигуры я вдруг понял, что зря приехал к нему и зря начал этот пустой разговор. Пуговицы он так и не нашел — терпения не хватило, и, наверное, мое присутствие раздражало его, — выпрямился, отряхнул брюки на коленях, сел с несколько перекошенным от такой неожиданной неудачи лицом за руль, молча закрыл стекло, включил зажигание, нажал на газ, и "мерседес" с мягким шумом рванулся, огибая согбенную статую Льва Толстого — молчаливого свидетеля нашего короткого разговора. Я тупо и растерянно взглянул на асфальт, где стояла машина, увидел золотистую пуговицу, пнул ее ногой так, что она отлетела в траву, и вспомнил строки из своего стихотворенья, написанного в 1987 году.
Ах, Федор Михалыч,
Ты видишь, как бесы
Уже оседлали свои "мерседесы",
Чтоб в бешеной гонке
И в ярости лютой
Рвануться за славою и за валютой…
К сожалению, полемические обстоятельства заставляют меня снова возвращаться памятью к августовским событиям 1991 года.
В ночь с 19-го на 20-е меня разбудил телефонный звонок. Звонила корреспондентка "Независимой газеты" Юлия Горячева. Она спросила о моем отношении к ГКЧП. Я ответил, что понимаю и поддерживаю людей, сопротивляющихся горбачевщине, что согласен на все ограничения свободы слова ради сохранения государства.
С тем же вопросом той же ночью ко мне обратились из радиостанции "Свобода", и я ответил им приблизительно теми же словами.
Через три месяца в интервью для "Независимой газеты" я сказал следующее: "Если бы мне предложили подписать "Слово к народу", считающееся идеологическим обеспечением действий ГКЧП, я не сомневаясь подписал бы его".
Я бы не стал так подробно вспоминать о прошлых событиях, если бы не очередные лживые воспоминания Евгения Евтушенко, который таким образом изображает в "Комсомолке" (3.8.2000) мой вышеописанный приезд к нему:
"После неудавшегося путча ко мне в кабинет секретаря Союза писателей пришел Станислав Куняев… У него тряслись руки от страха и он почти шептал: "Женя, ты же помнишь, мы с тобой дружили". Это был самый отвратительный момент в моей жизни, когда я увидел человека, который боится…"
Ах ты, жалкий сочинитель… Да я на глазах десятков людей разорвал бумажку префекта, спровоцированную твоим письмом к Гавриилу Попову, и при этом руки у меня не тряслись. Открытым текстом выразил свою поддержку ГКЧП, и голос у меня не дрожал… С чего бы мне перед тобой "лепетать" и просить о помощи, ну кто тебе из людей, знающих меня, поверит? Не ври и перестань во всех своих интервью вспоминать о своей популярности в мире, о своих 92-х поездках в разные страны, о десятках книг, переведенных на разные языки, о бешеной своей известности в Европе и Америке, о том, что твои стихи были нарасхват у читателей всей земли, и даже, как ты пишешь, "спасали их от решения уйти из жизни".