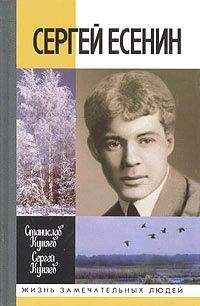— Нет. Только два слова. Еще буду пить за тех русских, с которыми целовался на Эльбе.
— Что ж, мистер Сомлер, спасибо за добрые слова, — поблагодарил Иннокентий — Выпью с удовольствием.
После того, как рюмки были опустошены, наступило молчание: все закусывали.
— А за нынешних русских? — спросил сосед-фермер. Чувствовалось, что он хотел подзадорить Сомлера.
— С теми, кто попытается лишить нас свободы и демократического образа жизни, я готов драться. Будь то русский, китаец или сам черт...
— Мистер Сомлер, — взмолилась Элла. — Я выключаю вас. Не надо политики.
Запрет молодой хозяйки соблюдался добросовестно. Оставшуюся часть вечера шутили, танцевали под приемник, вежливо смеялись над туповатыми анекдотами Сомлера.
Во время танца Элла прижалась к Иннокентию и, поднявшись на цыпочки, прошептала на ухо:
— Я хочу танцевать только с тобой. Слышишь? Не отдавай меня никому, пусть они веселят своих жен...
И потом совсем тихо, одним горячим выдохом:
— Я люблю тебя... Слышишь, люблю...
Эти искренние слова Эллы, ее чистая доверчивость глубоко взволновали Иннокентия.
Он знал, что рано или поздно они должны открыться друг другу в своих чувствах, но боялся этого объяснения: ведь его не покидала мысль о возвращении на родину, особенно теперь, под впечатлением печальной истории Пронькиных...
Элла ни о чем не догадывалась, она уверовала в его чувства, требовала ответа:
— А ты любишь меня, Иннокентий?
Он наклонил голову.
— О, Элла, Кенти! Вы же танцуете без музыки! — воскликнул Сомлер и рассмеялся.
Смущенные Элла и Иннокентий неловко уселись. Все это не укрылось от Хитта.
«Старею, — думал он. — С хозяйством справляться становится все труднее. Поженить бы их, взвалить ферму на широкие плечи этого мужика».
— Господа, позвольте и мне провозгласить тост, — произнес он, когда гости уселись. Леон поднялся, его глаза светились радостными огоньками.
— Я пью за тебя, Боб, и за твою молодую жену. Пусть твои дела процветают.
— Я пью за вас, мои милые соседи, всех благ вам.
— Я пью за тебя. Иннокентий. От души хочу, чтобы ты нашел здесь вторую родину.
— Я пью за тебя, Элла, пусть всю жизнь сопутствует тебе верная любовь и большое счастье.
Сразу стало шумно, весело. Включили вальс, Луэтта, опередив Эллу, пригласила Иннокентия. Элла танцевала с Сомлером. Вальс получился легким и красивым.
Но всему приходит конец: музыка умолкла, гости разъехались. Погас свет в комнате Леона.
Элла и Иннокентий, не сговариваясь, вышли на веранду. Это было неизбежно: застыли в долгом поцелуе. Иннокентий только утром отпустил Эллу.
Наступившее воскресенье, благодаря стараниям Эллы, было сплошным праздником.
Хитт, уставший после своего шумного праздника, разрешил дочери и Иннокентию провести день как им заблагорассудится.
Элла вывела из гаража машину. Промчавшись не менее ста миль, они попали на родео — состязание пастухов. Невиданное зрелище захватило Иннокентия: верхом на разъяренных быках вылетают ковбои. В правой руке они держат шляпу, левой — приветствуют публику. Долго, конечно, на скачущем быке не просидишь, падает каждый, приз получает тот, кто не угодит на рога или под копыта.
Элла, уцепившись обеими руками за локоть Иннокентия, с возбуждением наблюдала за состязанием. Но вот последний ковбой покинул поле боя, угнали последнего быка.
Они снова помчались с бешеной скоростью. В первом попавшемся на пути городке Элла, сидевшая за рулем, подвернула к аптеке.
— Ты плохо себя чувствуешь? — встревожился Иннокентий.
— Нет. Просто проголодалась. Пойдем.
Внутри аптека была похожа на бар и на смешанный магазин, что ли, какие бывают в русских селах. Только в самой маленькой комнате продавались аптекарские товары.
Заказали по стакану апельсинового соку, жареную курицу и бутылку вина.
Вино было очень холодным и на стенках фужеров появились слезинки.
— Как тебе понравился папин праздник?
— Средне... У нас, в России такие вечера проходят веселее. Проще, меньше официальности.
— Это Луэтта все испортила. В ее возрасте неприлично строить из себя инженю...
Каргапольцев понял, что Элла все еще ревнует его к Луэтте.
Около трех часов они приехали на огромное искусственное озеро. С трудом нашли место для машины, стали пробираться к берегу. Водная феерия была в полном разгаре: катер, словно белокрылая чайка, едва касается воды. За ним балерины на лыжах... Мчатся легкие моторки, преодолевая то полосу земли, то бушующее пламя подожженной нефти, то продираясь сквозь заросли кустарника.
У берега — веселая клоунада: десятки клоунов в несуразных костюмах. Их неожиданные трюки на воде вызывают неистовый хохот толпы.
Яркость красок, неистощимая фантазия, ловкость исполнителей превращали праздник в сказочное зрелище.
Элла восторгалась буквально всем, была счастлива, шептала Иннокентию пылкие признания... Он тоже радовался и смеялся вместе со всеми.
Домой возвратились усталые и счастливые.
Хитт с тревогой поглядывал на возбужденное, счастливое лицо дочери: «Как она похожа сейчас на свою мать!» — подумал старик. Элла что-то почувствовала в его взгляде, спросила:
— Папочка, ты что так смотришь на меня?
— Соскучился.
Хитт заметил также, что сквозь радостную улыбку Иннокентия просвечивается грустное облачко.
Это насторожило старика.
Погода установилась жаркая и сухая, было за тридцать градусов по Цельсию. Даже куры укрылись под навесом... А люди, распаренные и вялые, лениво передвигали ноги. Головная боль, слабость и какая-то противная дрожь во всем теле выводили Иннокентия из терпения. Он сидел в тени, безразличный ко всему, что происходило вокруг. Но надо было работать. Скоро его трактор врезался в плотную стену кукурузы. От трактора расходились волны горячего воздуха, словно круги от брошенного в воду камня. На руки, шею, грудь Иннокентия оседала бурая пыль, вместе с ручейками пота растекалась но всему телу.
Перед обедом к его полю подъехал Хитт. Иннокентий заглушил трактор и, не слезая с сиденья, поджидал хозяина.
— Ну как? — еще издали прокричал Леон, стараясь сдержать одышку.
— Все отлично, Леонтий Архипович.
— Поехали обедать. Только отдохну минуточку.
Крякнув, опустился на мягкий валок скошенной кукурузы. Когда прошла одышка, закурил.
— Старею, Иннокентий Михайлович. Неприятно сознавать, но ведь от этого никуда не уйдешь.
Хитт помолчал немного, спросил:
— Привыкаешь? К жизни здешней привыкаешь?
— Приходится.
— Жить везде можно, Иннокентий Михайлович. Жизнь в руках человека... А родина и тому подобные громкие слова, по-моему, условные понятия...
Каргапольцев не раз слышал от Хитта совсем-совсем другие слова, знал, что он тоскует по родному краю. А сейчас почему говорит не то, что думает? Видимо, эти слова хозяина специально для него, для Иннокентия.
— Хитрите, Леонтий Архипович?
— Нисколько, — поспешно ответил хозяин, отводя взгляд... Помнишь чудесные строки Данте: «Моим отечеством является весь мир»
— Не верю я, Леонтий Архипович. И Данте не верю: без родины нет человека. Есть скиталец, всем чужой и никому не нужный.
— Странно, Кеша, — хозяин как-то тепло, по-отцовски произнес его имя. — Мысли у тебя вроде и правильные, а поступки...
— В этом вся беда моя. Все время стремлюсь к родине, а ухожу от нее все дальше и дальше. Видно, не тем путем надо идти к ней. Другим надо было.
— Каким же?
— Путем борьбы.
— А что ты мог сделать? Подставить грудь под пулю — в этом я героизма не вижу. Плен во все времена на Руси считался позором. Помнишь муки князя Игоря: «О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор сумею искупить...»
— Помню. А все-таки можно было выбрать другой путь, — произнес он задумчиво. — И уж, по крайней мере, после сорок пятого.
— А может, Кеша, это только сейчас тебе так кажется?
Иннокентий прикрыл глаза широкой ладонью. И глубоко вздохнув, произнес:
— Может, и так... Плен — это страшная мельница, которая перемалывает не только тело, но и душу человека. Я знал товарищей, отчаянных и смелых, но и они нередко отказывались от борьбы, опускали руки, впадали в состояние отрешенности...
— Рядом с тобой не было крепкого друга, на которого ты мог бы опереться, так?
— Может, и так. Правда, была у нас небольшая группа... Только разве это борьба?
— Что же вы делали?
— Это уже в Дахау. Доставали сводки Советского информбюро, распространяли среди своих... Стало быть, страху много, а пользы не очень.
— Нет, ты неправ, Кеша, конечно, пользу ту руками не потрогаешь, но в тех условиях слово правды нужнее, чем кусок хлеба.
Иннокентий рассмеялся.