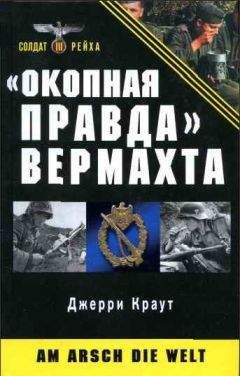Чувство взаимной поддержки и безопасности внутри группы было главной чертой товарищества. Многие солдаты черпали чувство собственной значимости из членства в сплоченной группе, ощущения, демонстрировавшего их стремление к единству. Воссоединившись с товарищами после короткой разлуки, Ги Сайер отмечал: «Радость и облегчение от встречи были столь велики, что мы обняли друг друга за плечи и, громко смеясь, изобразили что-то вроде полонеза… Я знал, что здесь мои друзья, и почувствовал себя намного лучше». Дружба, как размышлял он позднее, «очень много значила на войне, и ее значение, по-видимому, подкреплялось общей ненавистью, соединявшей людей узами дружбы, которые никогда не смогли бы пробиться сквозь барьеры обычной мирной жизни». Сайер вспоминал утверждение фельдфебеля, что «настоящая солдатская жизнь — единственная жизнь, которая сближает людей на основе абсолютной искренности, и между всеми без исключения существует чувство товарищества, которое в любой момент может подвергнуться испытанию».
Момент принятия в группу, принадлежности к фронтовому единству нередко оказывался откровением. Вилли Хайнрих в «Железном кресте» описывает внезапное осознание солдатом но имени Керн, прибывшим с пополнением, того, что он стал одним из членов солдатского сообщества:
«Эта мысль наполнила его гордостью. Неожиданно Керн почувствовал себя частью взвода, как будто провоевал в его рядах добрый десяток лет. Это чертовски здорово — принадлежать к группе отличных парней, сказал он себе. Мы — единое целое. Один за всех, и все за одного. Керн не помнил, откуда взялась эта фраза, но она показалась ему настолько замечательной, что он растроганно почувствовал, как у него по спине пробежал приятный холодок и защипало глаза. Как все-таки это прекрасно — иметь товарищей… Товарищество — это самое главное, пришла ему в голову мысль. И не важно, что иногда у тебя бывают размолвки с ними, самое главное — то, что все зависят друг от друга. На этих парней можно положиться. Хорошо, черт побери, что он попал именно в этот взвод, а не в какой-нибудь другой. Эта мысль наполнила его гордостью».
«Скоро я почувствовал себя совсем как дома, — повествует о начальном этапе войны Мартин Пеппель, — потому что я был допущен в особый круг людей… Мы все, от офицеров до последнего водителя, стали одной семьей». Даже те, кто оставался за пределами фронтового сообщества, легко понимали важность этого. «Чувство товарищества должно возникнуть быстро, — писал Карл-Фридрих Ортель, студент, спешно брошенный на фронт в январе 1945 года, — иначе мое сердце разорвется от тревоги».
Для многих солдат ощущение товарищества было подтверждением того, что, несмотря на жестокость войны, они еще существуют, и служило идеалом, укреплявшим их дух в условиях непредсказуемости повседневной жизни. «Здесь, среди этих людей, я наконец обрел внутренний покой, — писал Рольф Шрот осенью 1942 года. — Эти люди, воюющие в России, принадлежат к особой породе. Я сильно тревожился с тех пор, как пришлось их покинуть, и не мог успокоиться до тех пор, пока не получил приказ вернуться сюда. Ощущение усиливающейся преданности… придает мне внутренние силы». Более того, ощущение товарищества могло быть вполне осязаемым даже в самых суровых условиях. В одном из своих писем Гельмут Пабст весьма выразительно описывает один такой случай в октябре 1942 года:
«Рано утром я шел через траншеи и встретил часового. Это был невысокий круглолицый парень в каске. Он стоял в одиночестве. Было прохладно. Он замерз, втянул голову в плечи и переминался с ноги на ногу. Потом на секунду из блиндажа выскользнул высокий, худой, рыжебородый солдат. Они тепло поздоровались друг с другом. «У тебя покурить осталось?» — спросил низкорослый. «Да, — улыбнулся ему высокий. — Погоди, сейчас принесу». — «Знаешь, — сказал часовой так, что стало ясно, что не сказать этого он не мог, — мы с тобой настоящие друзья». Его лицо словно светилось изнутри, и он хотел подтверждения истинности этого великого чувства… демонстрации того, что не существует более вдохновляющего поступка, чем дать прикурить другому человеку: это очень просто, совершенно естественно, и в этой дружбе двух солдат, свидетелем проявления которой я стал в ранние утренние часы в безлюдной траншее, было что-то необыкновенное».
Эта потребность в друзьях — чтобы притупить собственное ощущение опасности, чтобы успокоиться в беде, чтобы бороться с одиночеством, чтобы заглушить страхи — служила мощным магнитом, притягивавшим многих солдат друг к другу даже в самых неблагоприятных ситуациях.
Особенно важно для солдата было сблизиться с теми, кто рядом, чтобы ощутить личный контакт, который позволил бы притупить чувство одиночества в бою, и не в последнюю очередь, чтобы знать, что во времена самых суровых испытаний можно положиться на других людей. «Не раз нервы чуть не подводили меня, — признавался безымянный солдат. — В такие моменты ты думаешь, что нужно сбросить весь этот груз, что ты больше не можешь держаться, и только в кругу товарищей за кружкой пива ты можешь снова отвлечься от этих мыслей». В противном случае всех солдат охватывало непреодолимое чувство, что их бросили на произвол судьбы. «Здесь во мне снова просыпается старый опыт честного солдата, — размышлял Гарри Милерт в ноябре 1942 года. — Каким же одиноким ощущает себя человек на переднем крае! Больше нельзя полагаться на собственные силы или на мощь своего оружия. Этим вечером я был вынужден снова вспомнить об этом».
Постоянное ощущение угрозы, чувство, будто тебя преследуют, страх перед возможностью гибели или плена в любой момент внушали сильный ужас и, соответственно, желание хотя бы отчасти обрести безопасность среди товарищей. Милерт сам говорит о силе этого чувства принадлежности к группе в своем предпоследнем письме: «Атмосфера этой войны никогда не приводила меня в такой восторг, как в этом году… Здесь, где люди мерзнут, дрожат, бросают в окоп охапки соломы и сидят на них, словно на гнезде, возникает и иной принцип отношений. И это часто проявляется в разговорах, ощущениях, мыслях. По ночам я ползаю от окопа к окопу, потому что нужно подбодрить ребят». В предыдущем письме Милерт пылко рассказывал, почему именно людям нужна была поддержка: «Никто на родине не сможет вознаградить фронтовика за страдания. Никто из них не сможет возместить ему страх и другие непередаваемые чувства и противоположные им отвагу и волю к победе, которые этим людям ежедневно и ежечасно приходится в себе находить. Только глубокое чувство товарищества, принадлежности к одной группе позволяло солдатам справляться с невероятным напряжением и подступающим чувством отчаяния, знакомым каждому из них».
У большинства солдат чувство товарищества возникало быстро. «Я на удивление легко освоился, — с изумлением писал Милерт в мае 1941 года. — Иногда мне кажется, что я старый солдат, хотя прошло всего четыре недели. Я стал больше интересоваться многими военными делами, которыми не только прежде не интересовался, но и которым противился. Но теперь я вижу, что в солдатской жизни есть и много хорошего». Дух товарищества связывал солдат и с их офицерами. «Сегодня у нашего командира день рождения, — писал Мартин Пеппель в своем дневнике в октябре 1943 года, — так что последнюю сосиску и последнюю бутылку вермута я оставлю для подарка. Мы все будем рады хоть что-нибудь подарить «старику». Это ощущение принадлежности к одному коллективу, эти узы, возникающие между людьми перед лицом опасности, были одной из немногих наград для солдата.
К огромному удовольствию от принадлежности к одной группе прибавлялось еще и ощущение общности переживаний и, возможно, упрямая гордость за переносимые сообща трудности. Сама сила этих страданий сплачивала солдат в единое сообщество, равного которому в мирной жизни не было, потому что это была группа, связанная общими усилиями, направленными на то, чтобы вынести невыносимое. «Наконец-то я прибыл в дивизию и марширую со своим полком», — писал Милерт в ноябре 1942 года после длительного отпуска. То, что это был его прежний полк, «естественно, было очень хорошо, потому что всегда приятно вернуться к товарищам, с которыми преодолел уже немало трудностей». В мае 1943 года Милерт утверждал: «Фронт… это как дом… Здесь существует «общность судеб», которая, вероятно, возможна лишь при самых тесных отношениях, как между любовниками или друзьями. В этом братстве по оружию еще много случайного, но, нужно признать, цель солдатского товарищества также имеет высшую этическую ценность».
Немногие солдаты выражали понятие товарищества столь же метафизически, как Милерт, и многих бы смутил разговор о высшей этической ценности, но практически все понимали, что такое «общность судеб» для солдат, ведущих борьбу за одно и то же дело. «Регулярно вдоль путей попадаются небольшие домики, занятые солдатами немецких железнодорожных войск, — описывал Мартин Пеппель свой путь в Россию в 1941 году. — Они несут здесь свою службу в одиночестве… Проезжая мимо, мы рады обменяться приветствиями с этими парнями, которых считаем братьями. Здесь мы по-настоящему ощущаем силу судьбы, которая свела нас вместе как немцев. Здесь солдат смотрит на других немцев и видит в них братьев, видит свой дом. Дома все по-другому. Люди проходят мимо, замечая друг друга лишь на маршах и собраниях». Как и ожидал Гитлер и как становится ясно из утверждения Пеппеля, формирование «фронтового единства» определенно предшествовало формированию «народного единства».