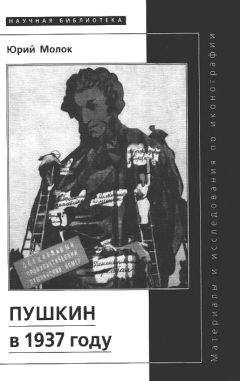В этой ситуации образ поэта, скорее, находит свое отражение в камерных формах, вплоть до кукол для детского театра. «И я с совершенно равным вниманием и серьезностью строю маленький движущийся памятник Крылова и Пушкина, — писал скульптор И. Ефимов в 1929 году, — как если бы я делал его для вековечной бронзы»[103]. Скульптурный памятник уступает место скульптурному бюсту, графическому портрету, книжной иллюстрации. Как правило, они не вписывались в юбилейные дни 1937 года (случай с бюстом Домогацкого скорее исключение), хотя для своего времени были более характерны, чем те, которые зафиксированы на листах юбилейного пушкинского календаря. Остановимся на некоторых из этих произведений.
I
Издание «Евгения Онегина» с рисунками Н. Кузьмина, задуманное издательством «Academia» к 100-летию первого издания пушкинского романа, немного опоздало и вышло в начале 1934 года.
Об этих рисунках много писали, отмечая их стилистическую связь с собственно пушкинскими рисунками. В самом деле, работы Кузьмина оказались синхронны второму рождению пушкинской графики, известной и раньше, но именно в 30-е годы попавшей в центр всеобщего внимания и ставшей предметом специального исследования. Именно в это время А. Эфрос выпускает ряд книг о рисунках Пушкина. Беглая скоропись пушкинского пера, мелькание его профилей создавали некую иллюзию присутствия поэта. В этой ситуации сходство почерка современного художника с пушкинским объясняет успех и уязвимость этих рисунков. Одни увидели в них «сплошную пародию»[104]. Другие встретили их с воодушевлением, особенно в литературной среде.
П. Я. Павлинов. Пушкин.
Гравюра на дереве. 1924.
Собственно, они и вышли из стен домашней пушкинской «академии» М. Цявловского, «где, — как вспоминал сам художник, — чуть ли не каждый вечер происходили пушкинские чтения, где каждый раз кто-нибудь приносил сенсационную новость: в те годы, близкие к 100-летнему пушкинскому юбилею, то и дело происходили открытия — то новый автограф, то неизвестный факт биографии Пушкина»[105]. Таким своего рода открытием были и рисунки Кузьмина. Пушкин оказывался вблизи, почти на дружеской ноге. Нечто подобное предложит современному читателю М. Зощенко, сочинив в канун юбилея «копию с прозы Пушкина — шестую повесть Белкина…»[106]. Во всем этом было что-то от милой литературной, точнее литературоведческой, игры. Теперь, с рисунками Кузьмина, к ней прибавилась и доля графической мистификации.
Неудивительно, что одним из первых, кто оценил работу Кузьмина, был все тот же исследователь пушкинских рисунков. «Между кузьминскими рисунками и пушкинскими нет посредников, — писал А. Эфрос в 1934 году, — Кузьмин перечеркнул сто лет онегинской графики. Он начал там, где Пушкин кончил»[107].
Так состоялся перевод языка пушкинской графики на язык современной графики и современной книги. Это был дерзкий шаг, тем более что сами пушкинские рисунки неотделимы от его рукописей, от материи письма. Отрицавший, как известно, жанр иллюстрации, Ю. Тынянов относил пушкинские рисунки либо к «рисункам вообще», либо к «рисункам по поводу». «Во всех этих случаях об иллюстративности говорить не приходится»[108].
Но Кузьмин не только перевел пушкинский почерк на книжный язык. Он самого «Евгения Онегина» сделал романом о Пушкине. Исходя из знаменитого пушкинского рисунка, где поэт нарисовал себя рядом с Онегиным, иллюстратор сделал поэта главным персонажем романа.
Из 140 рисунков в сорока пяти, как отмечает современный исследователь, присутствует Пушкин[109]. Его, а не Онегина отыскивает глаз читателя. В этом отношении Кузьмин далеко превзошел тех художников, которые совершат попытку ввести поэта на страницы его, поэта, сочинений уже в юбилейные дни. (Через три года, как мы знаем, Н. А. Тырса решится ввести Пушкина в игорный дом и усадить напротив Германна. Фигура Пушкина возникнет и возле «Медного всадника» на картине В. Сварога «Рождение поэмы».)
Так произошел сдвиг пушкинского романа в сторону графического романа о Пушкине. Произошла двойная инверсия, двойная авторизация книги: главным героем романа становился автор, и сами иллюстрации к роману оказались выполненными в манере, близкой к манере автора. Это редкое среди иллюстраторов внимание к авторской графике можно наблюдать у Кузьмина не только в рисунках к «Онегину», оно присутствует и в рисунках к «Маскам» Андрея Белого (1932), исполненных параллельно онегинским («Белый обладал даром схватывать характерное, и некоторые его портретные формулировки я перенес в свои иллюстрации почти целиком», — писал об этом Кузьмин[110]).
А. С. Пушкин. Проект иллюстрации к «Евгению Онегину». 1824.
Н. В. Кузьмин. Рисунок к «Евгению Онегину». 1933.
Страница каталога выставки группы «13». М., 1931.
Н. В. Кузьмин. Рисунок к «Евгению Онегину». 1933.
Н. В. Кузьмин. Рисунок к «Евгению Онегину». 1933.
К «вольному» обращению с Пушкиным художник пришел не только с ведома пушкинистов, но и с другой, несколько неожиданной стороны. Его первые пушкинские рисунки экспонировались в 1929–1930-х годах на выставке группы «13», которая культивировала образ современного «быстроокого художника», стиль и манеру легкого, живого наброска. Экспонировались рядом с картинками городской жизни со всеми ее современными реалиями. Рядом с «Велосипедистами» Р. Семашкевича, «Цирком» Д. Дарана или «Стоянкой автобуса» того же Кузьмина, пушкинские наброски казались также исполненными на улицах современной Москвы. Это уже был Пушкин «не вчера, не сегодня», а «здесь, прямо сейчас». И такое вольное соседство зрителей выставки в конце 20-х годов вроде еще не смущало.
Иное дело пушкинский текст, прочитанный через семь лет, в дни юбилея. Особое возмущение тогда вызвал один из рисунков Кузьмина, который должен был иллюстрировать строчки из конца 2-й главы «Онегина» («Быть может (лестная надежда!), / Укажет будущий невежда / На мой прославленный портрет / И молвит: то-то был поэт») и на котором художник нарисовал современных юношу и девушку, благоговейно взирающих на портрет поэта. Этот вполне безобидный рисунок был воспринят как «пасквиль» на советского зрителя[111]. Его пришлось убрать из последующих изданий, а художнику — до конца жизни объясняться по этому поводу, объяснять, по существу, за Пушкина, напоминая, что тот и Ленского называл «невеждой» («Он сердцем милый был невежда…») и что в пушкинские времена это слово имело другой смысл[112].
С онегинскими рисунками Кузьмина сложилась парадоксальная ситуация. Они как будто должны были естественно вписаться в юбилейную графику с ее концепцией «живого Пушкина». Однако этого не произошло. Вероятно, слишком игривыми и вольными они показались в торжественной и мрачной атмосфере юбилейных дней 37-го года. «Кузьмин дал все, что мог, в своих иллюстрациях к Пушкину, и все-таки видеть его рядом с Пушкиным почти нестерпимо»[113].
II
Еще более холодно были встречены в юбилейном 37-м году гравюры Фаворского к «Домику в Коломне». Впрочем, они и не предназначались к каким-либо памятным датам.
Календарь пушкинских дат у В. Фаворского свидетельствует о том, что пушкинская тема составляет сквозную тему его творчества, и ставит перед нами и трудноразрешимые вопросы. В самом деле, почему Фаворский за свою долгую жизнь три раза обращался к «маленьким трагедиям» и ни разу — к «Евгению Онегину», хотя и обдумывал план иллюстрирования романа?[114] Почему Фаворский выбрал в 1935 году «Пушкина-лицеиста»? Почему он начинал своего Пушкина с «Домика в Коломне»? Наверное, единственно возможным ответом на эти вопросы будет признание того факта, что встречи художника с Пушкиным происходили не только по юбилейным пушкинским дням, но и по календарю духовной биографии Фаворского. И этот календарь оказывался общезначимым для своего времени.
Так, в начале 20-х годов, когда Фаворский принялся за «Домик в Коломне», это не было случайностью. (Тут у художника оказался неожиданный единомышленник, о чем он, скорее всего, и не подозревал: в 1922 году Игорь Стравинский пишет в Париже оперу «Мавра» на сюжет того же «Домика в Коломне».) В российском духовном климате тех лет, с его безбытностью, склонностью к иронии и гротеску, с его отсутствием романной формы, вряд ли мог возникнуть новый цикл иллюстраций к «Евгению Онегину». Интерес к Пушкину классическому — это уже 30-е годы. Закономерно и то, что гравюрное прочтение «Бориса Годунова» было осуществлено Фаворским только после войны. И последняя его работа в книге, которую он сам избрал, были опять-таки «маленькие трагедии». Это было в самом начале 60-х годов, снова в неюбилейные пушкинские дни.