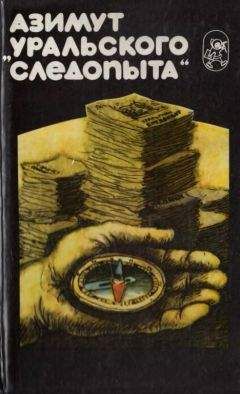А многие ли из нас остановят ребенка, когда он раздавит улитку или принесет домой, и она там сдохнет? Так что видите — и для тех, кто не входит в «служебные отношения с природой», есть много возможностей оберегать ее.
Вот здесь-то я как раз и не настаиваю на том, чтобы именовать проблему охраной природных условий, и пусть она звучит для каждого из нас привычно и человечно — охрана природы.
Беседу вела
Александра Зимина
Леонид Фомин
Перед ярким цветком
(Заметки писателя)
Осень в том году выдалась ясная и звонкая. Дали редко заволакивали тучи, и они, неоглядные, лилово-синие по горизонту, сулили скорые сухие холода. Лишь по утрам над убранными полями вставали светлые туманы, но и их через час-другой разгоняло солнце.
Иногда в высоком и уже студеном небе с печальными кликами пролетали журавли. Они всегда летели над полем в одном направлении — на запад. Завидев их, мы, сельские мальчишки и девчонки, махали вслед шапками, платками и кричали-просили передать привет нашим отцам на фронте…
Мы часто видели журавлей, потому что часто были в поле. Каждый день, неделю за неделей, весь сентябрь. Мы собирали пшеничные колоски и понимали, какое важное делали дело. Хлеб тогда убирали неуклюжими прицепными комбайнами, чаще конными жатками, потери зерна были большими. И вот нам, школьникам, поручали эту нехитрую, но такую необходимую работу.
Мы знали: кроме нас колоски никто не соберет, совсем нет людей, даже на комбайнах работали женщины, и знали, какова цена каждому мешку, каждому килограмму спасенного нами зерна. Поэтому и шли вместо школы каждое утро в поле, шли рядом с учителями и не уходили, пока не выполняли задания.
Десяти-, двенадцатилетние, мы уже познали цену хлебу, и не только как материальному продукту. Сами испытали, насколько тяжек труд добывать его. Это еще не все — вспахать поле, засеять, вырастить урожай. Надо убрать, сохранить, не потерять ни одного колоса. Подбадривая нас, полуголодных, сморенных работой, учительница младших классов Тамара Сергеевна Тарасова говорила тогда:
— Каждое поднятое с земли зерно — это пуля для врага.
И мы верили ей…
После трудового дня кровоточили изрезанные остью пальцы, болели плечи, ломило спину. А мы ходили и ходили на поле собирать драгоценные колоски, наказывали пролетавшим журавлям передать привет нашим отцам на далеком фронте. И еще просили сказать, что здесь, в тылу, не сидим мы сложа руки, помогаем своей работой бить фашистов…
До сих пор не могу объяснить, почему все это так отчетливо всплыло в памяти, но наверно все же толчком к тому послужил поздний телефонный звонок. Взволнованный голос сообщил, что в одном из дворов многоквартирного дома школьники играют в хоккей и вместо шайб гоняют мерзлые «кунцевские» булки…
— Вот вы пишете, разъясняете, призываете. А толку что? Статья — это ведь не закон, не мера пресечения. Кто-то прочитал, кто-то нет. Да и все ли прочитавшие поймут важность вопроса? Как практически-то остановить подобное безобразие? Никак в толк не возьму, понять не могу, откуда такое у нынешних ребят? Ведь мы-то не подаем худого примера, не пинаем хлеб…
Ну что я мог ответить? Да и ответишь ли в двух словах на целую проблему, на нравственное нездоровье некоторой части детей, подростков, проявляющееся, к сожалению, не только к святому святых — к хлебу. Вот и попытался я поразмышлять, опираясь на собственные наблюдения, на читательскую почту, почему так несхожи дети в разных житейских ситуациях. Какова первопричина доброго поступка и худого, отчего проистекает то и другое? И не имеет ли это прямого отношения к тому, что современные наши дети уж слишком оторваны от земли, от забот взрослых, от посильного труда, вообще от колыбели всего сущего — природы.
* * *
Передо мной два письма. Очень разные по содержанию, но чем-то неуловимо близкие по сути.
«В нашей семье двое уже взрослых парней, — пишет Любовь Константиновна Р. — Старший, Володя, родился и рос до школы в деревне. У нас был свой дом, огород, держали корову, разную мелкую живность. Деревня стояла на очень красивом месте: привычные поля и те каждый раз виделись по-новому. Все, в том числе и маленький Володя, любили вечерами работать на нашем приусадебном участке, посидеть с удочкой на речке.
Потом случилось так, что мы были вынуждены распродать хозяйство и переехать в город. Оба с мужем поступили на завод. Нам выделили благоустроенную квартиру. Володя долго скучал по родной деревне, по тихой омутистой речке с гальянами, по друзьям. Даже вспоминал, что где стояло в дому, во дворе. Но вот родился второй сын, Саша, и все, кажется, стало на свое место…»
Дальше Любовь Константиновна сообщает, что Володя уже заканчивает институт. Саша учится в девятом классе. И тут же с тревогой добавляет: «Здоровые, умные ребята, но какие они разные, хотя и родные братья! Сперва думала, несхожесть характеров объясняется разницей возраста: как-никак Володя старше брата на шесть лет. А потом стала понимать, что дело здесь не только в возрасте, а может быть, еще и в той среде, в той атмосфере, в которой живет младший сын. А разница между ними и впрямь большая: если Володя трудолюбив, добр к людям, любит природу и животных, то Саша — полная ему противоположность. Природу он просто не замечает, его с трудом уговариваешь сделать самую малую работу по дому, ничем, кроме хоккея, не интересуется, терпеть не может кошек, собак, груб с товарищами. И самое настораживающее в его поведении — это глухость ко всему окружающему, потребительское отношение к жизни, неуважение труда взрослых, в том числе и нашего, родительского…
Откуда это? Разве современный город с его цивилизацией и исчерпывающими бытовыми условиями для жизни и учебы мог повлиять на формирование личности школьника? Но ведь Володя-то, можно сказать, свою сознательную жизнь тоже прожил в городе. А совсем другой! Уж не в огороде, не в грядках ли тут дело, не в той ли природной благодати, которая окружала Володю в его ранние детские годы и чего лишен был Саша?..»
Вот такое это письмо, полное тревоги за младшего сына, нынешнего городского подростка.
И вот другое. Его прислал мастер производственного обучения одного из профессионально-технических училищ города Свердловска Александр Николаевич В.
«…Мы стараемся набирать для обучения сельских мальчишек и девчонок. С этой целью я каждое лето езжу по колхозам и совхозам, вербую, так сказать, молодежь в училище. Почему? Разве мало в городе школьников? Да потому, что ребята из деревни прилежнее, добросовестнее относятся к учебе и почти исключен процент отсеивания. Как правило, эти же ребята, став квалифицированными рабочими, прочно закрепляются по местам распределения и работают с полной отдачей».
А в конце письма автор заостряет внимание еще на одном моменте нелегкой его заботы: «Тут надо учесть и тот факт, — пишет он, — что в училища-то в основном попадают те ребята, которые или не прошли в институты, или же которым уже в восьмом классе как бы повесили некий ярлык неполноценности: ты, мол, троечник, инженера из тебя все равно не выйдет, так что давай продолжай учебу и получай специальность в техническом училище…»
Я долго размышлял над письмами. В самом деле, где же корень зла, в чем первопричина вот такого расслоения наших юных, только-только вступающих в самостоятельную жизнь людей? И не близка ли к истине корреспондентка первого письма, где она не очень уверенно, но все же склоняется к мысли о том, что нельзя отделять детей от земли, от природы, ибо это не просто земля и природа, а составная часть нравственного формирования человека.
Вспоминается далекая военная весна. Поля только-только освободились от снега, и мы, сельские ребятишки, отправились с ведрами и котомками выбирать оставшуюся с осени в земле картошку. Ненароком она была оставлена: незамеченные отдельные клубни и мелочь, довольно неприглядная, но дорогая — из нее пекли лепешки. В ту голодную пору такие лепешки пекли не только в нашем селе, пекли, пожалуй, по всей России…
Рассвет застал уже в дороге. Небо на востоке сначала заалело, призрачно высвечивая словно бы парящие над дальними полями березовые островинки, потом как-то враз яркой светозорью плеснуло по всему горизонту, и занялось, заиграло огнями новое утро. По-особому в этот ранний час пахло талой землей, полыми овражными водами, цветущей вербой. Вставали в ожидании солнца, смело раскрывали ворсистые бутончики придорожные цветы мать-и-мачехи, радостно смотрели на зарю ликующе-желтыми глазками. По мокрой, парящей, как бы струящейся голубизной пашне лениво бродили еще сонные, лоснящиеся от лаковой черноты грачи — такие черные, что чужими, нелепыми казались их щеголевато-белые клювы. Разливным оранжевым морем полыхал горизонт на востоке, вот-вот из-за лесистого увала взойдет солнце, и там, где оно взойдет, уже сиял в радужном нимбе золотой его венец. Где-то в зените, будто подвешенный, все на одном месте, переливчато, звонкоголосо пел жаворонок. Мы запрокинули головы и долго искали его глазами, пока Сашка Быков, очень изможденный постоянным недоеданием мальчик, не закричал радостно: