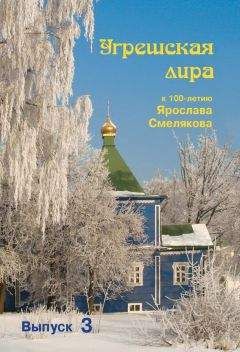— Так ведь, дарагой таварищ Быков! Сами знаете… Запавэдник… Товарищ Ибрагимов… Ахотитца… Атдыхает… А вдруг таварищи фарэль паймают или кабана убьют? Кто отвэчать будит?
— Как кто? — удивился Быков. — Конечно, ты! Ну-ка пиши записку своим егерям, чтобы не мешали работать товарищам геологам. Вот тебе бумага, вот чернила…
Трясущейся рукой бедный товарищ Юсупов нацарапал несколько слов, передал мне бумажку и умоляюще посмотрел на Быкова.
— Можно идти, тавариш Быков?
— Можно, товарищ Юсупов!
Когда за директором лесхоза захлопнулась дверь, Быков печально улыбнулся и развел руками:
— Видите, как трудно работать! Ну, слава богу, у вас все в порядке! Поезжайте заниматься своей съемкой. Будет время, я к вам загляну на чай…
Я поблагодарил его, развернул записку с несколькими корявыми словами и спросил у Быкова на прощанье:
— А скажите мне, что хоть наш товарищ Юсупов здесь написал?
Быков поглядел в записку и расхохотался
— Ну, конечно, он не поверил, что вы работать приехали, и дал такое распоряжение своим егерям: "Пусть дорогие гости хорошо отдыхают!.." Что делать, привычка!
* * *
Я — коллектор Портнягина. Мы ходим с ним в маршруты— в одной связке. Мои обязанности — подготовиться с вечера к маршруту. Проверить снаряжение — тяжелые геологические ботинки с зубцами — "трикони", геологические молотки, положить в рюкзак пикетажные книжки, пластырь, мешочки для образцов; не забыть котелок для чая, заварку, две кружки, хлеб, соль, сахар, огурцы, помидоры. Все должно быть с вечера уложено, пригнано, затянуто. Из лагеря уходим рано, чтобы успеть до жары выйти на маршрутные отметки — а порой это километров за пять от лагеря, да еще превышение километр-полтора — и начать по утренней прохладе работу. Эрнст ходит в маршруте легко. Четко замеряет углы залегания пород, записывает их характеристики, а я в это время выбиваю из обнажений образцы, обколачиваю грани, наклеиваю на свежий излом кусочек пластыря, пишу на нем номер маршрута.
К полудню килограммов пятнадцать камней уже оттягивают мои плечи… А еще маршрутить километра три, покамест выйдем на берег Сардай Мианы. Фляга чая, взятая в маршрут, уже выпита во время первого перекура. Пот заливает глаза. Рубаха пропиталась солью — чувствуешь спиной, как она задубела… И нет большего наслаждения, чем услышать в эти минуты бульканье родника! Эрнст пьет расчетливее, скупее и подсмеивается над моей ненасытностью:
— Ты знаешь, как Александр Македонский создал свою гвардию? В каком-то походе на Восток его войско одолевало пустыню и чуть не обезумело от жажды. Из последних сил вышли к воде. Солдаты бросили щиты, мечи, копья и, оттесняя друг друга, рванулись в реку, падали в нее, пили, пускали пузыри, кричали… Словом, вели себя, как… ты. Только немногие из них переждали, пока все стадо напьется, отложили оружие, сняли бронзовые шлемы, умыли руки, лицо и лишь после этого с достоинством утолили жажду. Вот из них-то Александр и сформировал гвардию. Кстати, он напился последним…
Я восторгаюсь, мне нравится рассказ, но у очередного ручья виновато оглядываюсь на Эрнста, сбрасываю с плеч рюкзак и припадаю к влаге потрескавшимся ртом.
Высокогорная вода! Холодная, снежная, ледяная, прозрачная, разламывающая зубы, синяя, обжигающая, сладчайшая, пенящаяся, летящая серебряными нитями водопадов, журчащая в мраморных трещинах, — я пил ее везде, где бы ни встречал. Уже не хотелось, но от одного взгляда на эту воду жажда вновь вспыхивала в горле. Я знал, что много пить нельзя, что потом будет тяжело идти, но глаза — жаждали. Я каждый раз с сожаленьем уходил от ручья — все равно всю не выпьешь! Но встречался следующий ручей, и я останавливался, снимал с затекшей спины груз и не торопясь выбирал удобное место, опускался на колени или ложился всем телом на влажную траву, на холодные камни, на отполированную яшмовую глыбу, погружая сначала воспаленные губы, а потом все лицо в освежающую струю, и, хмелея, начинал пить медленными маленькими глотками. Потом делал большой глоток, потом, чтобы не утолить жажду чересчур быстро, втягивал влагу сквозь зубы, пробовал ее вкус на язык и с сожалением отправлял в горле. Напившись досыта, я любил посидеть рядом с водой, слушая ее искрящийся шум, ощущая прохладу, исходящую от нее. В эти минуты, глядя на красные, белые и зеленые камни, светящиеся на дне, я чувствовал связь синего холода и воздушной свежести со своей судьбой, с присутствием в душе и в теле вечно молодой силы. Только боги и звери достойны пить эту воду.
К середине дня мы вышли к водопаду. Крутизна двухсотметрового плато, сложенного из коричневых пластов мезокайнозоя, была такова, что поток не скатывался по обрыву, а от верхнего края его и до глубокой выдолбленной чаши на уровне нашей тропы сверкающим жгутом висел в воздухе. Сердце заныло: а что там наверху — ручей, или громадное озеро, или какой-нибудь затерянный мир, где еще не ступала нога человека?
— Эрик? Подымемся!
— А зачем?
— Да посмотреть, что там…
Он улыбается улыбкой человека, прошедшего через такие детские искушения:
— Я тебе, чтобы не тратить полдня на подъем, скажу: там то же, что и здесь…
Уже четвертый час пополудни. Эрнст делает последнюю запись в пикетажке, и мы выходим на каменную осыпь, внизу голубой лентой вьется Сардай Миена.
— Что-то старею, друг! — грустно усмехается Эрик. — Бывало, такой маршрут я за полдня делал. Один делал, без коллектора. Сколько можно маршрутить? Сорок лет скоро! А все по горам прыгаю… Ну, поехали к реке, чаю сварим, да ты, глядишь, и форелью накормишь начальника. Пошли! Голеностоп держи плотнее!
Мы прыгаем с тропы в "живую" сланцевую осыпь, и она, медленно шурша, начинает ползти по склону, а вместе с ней, удерживая равновесие и перенося центр тяжести с одной ноги на другую, мы скачем вниз, опережая мощную шевелящуюся массу.
— Эрик! — в восторге кричу я. — Сма-а-три!
Эхо скачет по скалам к вершинам хребтов, обложенных розоватой дымкой.
На берегу с наслаждением сбрасываем рюкзаки, расшнуровываем тяжелые трикони и спускаем намятые, черные от сланцевой пыли ноги в ледяную синюю воду.
Пока Эрнст разводит костер в тени столетнего орехового дерева, я налаживаю удочку…
Ловля форели — нечто среднее между рыбалкой и охотой. Осторожно, чтобы не спугнуть рыб, прячась между кустами и камнями, я подхожу к берегу. Небольшой водопад, клокочущий, чуть выше меня, впадает в глубокий базальтовый бассейн. На корточках подползаю к воде, переворачиваю камень — ага! Вот он, букаш, любимое блюдо форели. Беру самого крупного, нанизываю на крючок. Делаю бесшумный взмах удилищем — гибкий фибергласе легко посылает грузило и наживку под водопад. Мерными движениями, чтобы не зацепить грузило за камни, начинаю подтягивать леску к себе… Удар! Я знаю, что в эту секунду хищница с разгона схватила букаша вместе с крючком и рванулась обратно под камень. В ту же секунду я рву удилище на себя — форель не язь и не плотва: чуть замешкаешься — и она, разрывая себе рот, сорвется с крючка, — ее надо сразу выдергивать из воды, пока не опомнилась. Фиберглассовый конец сгибается в крутую дугу, в следующее мгновение кончик распрямляется, выбрасывая из синей стремнины что-то трепещущее и разноцветное, рыба с глухим шмяканьем ударяется о гранитную стенку за спиной, слетает с крючка на тропу и, отпрыгнув от нее, летит обратно к воде! Вслед за ней, словно доставая безнадежный мяч на волейбольной площадке, летит мое тело — я падаю на все локти и колени, пытаясь прижать собой этот извивающийся упругий и холодный кусок жизни! Вырвалась?! Нет! Вот она! Держу! Все… Можно передохнуть и разглядеть свою добычу.
…Золотистый чай заваривается в котелке. Ореховые ветви уже прогорели. Я разгребаю угли ровным слоем, кладу по обе стороны кострища два ряда камней, на них — параллельно друг другу несколько сырых веток и на ветки осторожно укладываю одна к другой четыре крупных форели, натертых солью. Через две минуты они начинают томиться, дергаться от жара, как живые, их спинки снизу покрываются коричневой корочкой, я переворачиваю рыбу, сок с нее каплет на угли, и аромат благоуханных испарений щекочет наши ноздри.
Я обрываю с ореха несколько крупных листьев, кладу на них огурцы, помидоры, хлеб — и на два подогретых листа отдельно — царскую рыбу, испеченную в собственном соку. — Обед готов, начальник!
Портнягин ест с жадностью, чмокая и постанывая от удовольствия. А я смакую форель не торопясь, чтобы не испортить себе впечатление от рыбалки; вспоминаю, как я подсек ее, как она рванула леску, соблюдаю достоинство добытчика и веду себя как гвардеец Александра Македонского. Словом, роли наши — поменялись.
А потом по кружке золотого чая! Да по сигарете! И развалиться на мягкой траве, разбросать по траве руки и ноги, бессмысленно глядя в бездонное небо. Так и заснули мы на земле. Я — в рваной красной футболке, Эрнст в линялой выношенной штормовке, оба в заплатанных джинсах, босые, счастливые, и проснулись на вечерней прохладе. Заходящее солнце уже очертило длинные синие тени от нашего ореха. Костер догорел. Угли покрылись серым пеплом, и только еле заметная струйка дыма уходила в потемневшее небо…